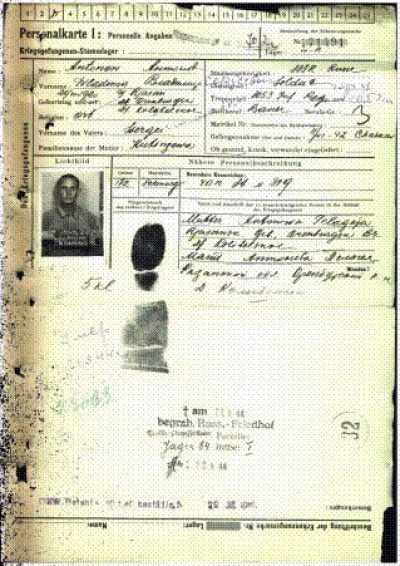«Ты не вейся, черный ворон...»
Волгоградская область
г. Дубовка, школа № 1, 11-й класс
Научный руководитель: В.В.Заводюк
Первая премия
У моего отца есть старинный друг. Обоим уже за шестьдесят, а подружились они в детстве. Зовут друга дядя Шура Тиханченко. Живет он в селе Стрельно-Широкое нашего же Дубовского района. Живет там давно, с 1950 года. С четырнадцати лет. Больше полувека, получается.
А родился он в Каменке, километрах в двадцати от Сталинграда. Мать у него умерла еще до войны, и отец привел в дом мачеху. Потом началась война, отца забрали на фронт, но один раз он приходил домой. Обнял жену и пятилетнего дядю Шуру, сказал, что служит в кавалерии, покачал мальчишку на коленке, словно на коне, а утром ушел. Воевать, наверное. На коне – против танков, что рвались летом сорок второго через донские степи к Сталинграду.
Когда уходил отец, помнит дядя Шура, была минута, когда вдруг застыл он как-то странно, замер, распустился весь, почему-то долго глядел на него, и горькая складка залегла в углах его рта. Но потом встряхнулся, взбодрился, вскочил на коня и крикнул: «Ничего, сынок! Живи! Авось, все обойдется!»
Заголосила вдруг мачеха и, упав на землю, долго лежала так неподвижно, видимо, предчувствуя свою горькую вдовью долю, а маленький Шура стоял над нею, просто стоял и ждал, когда она поднимется и они пойдут в дом.
Летом 1942 года фашисты нанесли удар на южном направлении. Уничтожив и пленив в Харьковском «котле» более 600 тыс. наших войск, захватив Крым и Северный Кавказ, немецкие танковые клинья рванулись к Сталинграду. И тогда прозвучали над Родиной жестокие и беспощадные слова страшного приказа № 227: Ни шагу назад! Выстоять или умереть!
Тогда командование срочно сформированного Сталинградского фронта, еще не умея воевать по-другому, бросало в бессильной ярости под гусеницы фашистских танков все, что находилось под руками: недоучившихся курсантов военных училищ, тыловиков, рабочие ополчения, энкавэдэшников и… кавалеристов. В одной из таких атак, отчаянных и бессмысленных, видимо, и погиб его отец. Где-то тут, в степях. А где точно – никто не знает. Но это дядя Шура понял уже потом, когда вырос и когда все-таки пытался понять, как и за что погиб его отец, как пытаются это понять, вырастая, все дети погибших воинов.
Впрочем, атаки эти были не такими уж и бессмысленными. Смысл в них все-таки был. Врагу давали понять, что русские, защищаясь, не остановятся ни перед какими жертвами, что война будет кровопролитной, на истребление, и что когда ветер военной удачи подует в наши паруса, на пощаду враг пусть не надеется.
Не сумев с ходу овладеть городом после невероятно жестокой бомбежки 26 августа 1942 года, немцы намертво завязли в кровопролитных уличных боях, где каждый дом был превращен обороняющимися в крепость. И вот здесь немецкое умение красиво побеждать натолкнулось на русское умение отчаянно обороняться. Наши бойцы быстрее освоили науку уличных боев, и город превратился для немцев в ад. В ноябре наши генералы впервые в этой войне организовали немцам «котел». 330 тыс. солдат оказались в окружении, отрезанными от своих баз снабжения. Сколько погибло в той мясорубке наших солдат, мы до сих пор стыдливо умалчиваем. Да мне кажется, их тогда никто и не считал; победили – ура-ура!
Опять пришла необычно ранняя и необычно лютая зима. Пленные длинными колоннами потянулись по прокаленным морозным дорогам, оставляя на обочинах трупы – ослабевших и павших. Из 92 тысяч сдавшихся в плен более 30 тысяч умерли.
Дядя Шура видел эти трупы в городе и за городом, помнит, как еще долго после войны стояли вдоль Сталинградского грейдера от Дубовки березовые кресты: наверное, братские захоронения павших немецких солдат. Потом кресты убрали, и могилы забылись. Русская земля приняла всех: и своих безымянных, и тех, чужаков. Чего шли? Чего искали? И что нашли? А отец дяди Шуры пал, и он с шести лет – сирота!
Но все это дядя Шура, повторяю, понял уже тогда, когда вырос.

Кругом шла война, наступил голод, мачеха пожила-пожила в Каменке какое-то время, а потом собрала вещи и ушла куда-то в свою деревню, откуда ее привез отец. Название той деревни дядя Шура не знал. И остался он совсем один. Несколько дней голодал, отощал здорово, обветрился весь, колтун в волосах, а умирать не хотел. И тогда пошел он искать своего отца, единственного родного для него человека, который пожалеет его, обмоет и накормит. Куда? А – на фронт, куда и ушел его отец.
Фронт был рядом. Из Каменки его было видно. Там полыхал огонь, шел черный дым, ухало и гремело. А еще там летали самолеты, и несколько раз жители Каменки наблюдали воздушные бои. Самолетики в небе стрекотали, мелькали вверх и вниз, падали и вновь взмывали, а потом какой-нибудь из них начинал дымить и пал совсем. Жители кричали радостно и хлопали в ладоши, когда это был самолет с крестами на крыльях, или горестно вздыхали и утирали глаза, если это был наш, со звездочками. Уже тогда маленький дядя Шура в этом здорово разбирался и по звуку мог отличить, когда летит немецкий бомбовоз, а когда – наш. И «раму» проклятую ненавидел, и «фоккеры».
Так вот, пошел он к фронту искать своего отца. В этом месте память дядю Шуру начинает подводить. Потому, видимо, что уж больно страшной была обстановка вокруг. Голод, холод, пальба и взрывы. Он бродил среди развалин, везде было дымно, холодно. Кормили его и наши красноармейцы, и немцы, видимо, тоже: позиции воюющих порою были рядом. Иногда его прятали в каких-то подвалах, где сидели женщины и другие дети, в одном месте его даже умыли, велели никуда не ходить, а сидеть и ждать, когда все кончится, но маленький дядя Шура посидел-посидел, а потом все равно вылез потихоньку и ушел куда-то, надеясь, наконец, встретить своего отца. Мальчишку жалели, кормили, удивлялись тому, что он оставался невредим в этом аду, а он шел дальше и верил, что ничего с ним не может случиться, потому что ходит он не просто так, а ищет своего отца. Ни пуля, ни осколок его не тронули, обошли стороной.
– Дядя Шура, а как же ты не замерз? – спрашиваю я его. – Ведь холода какие были.
– А мне солдаты телогрейку дали, и шапку, и валенки. Так и прожил в них зиму. А подпоясываться и вязать шапку под подбородком я уже и сам умел…
Беда случилась с ним уже после, когда бои закончились, бойцы из города ушли, откуда-то появились люди, а вместе с ними – базары. Там дядя Шура и кормился. Когда подавали, а когда и стащит кусок у зазевавшейся торговки. «Табунился» дядя Шура в компании таких же, как и он, чудом уцелевших и одичавших ребятишек, с которыми познакомился тут же, на базаре. Возраста были они всякого, но в большинстве – постарше. Жили в подвале разбомбленного дома, откуда наши бойцы совсем недавно выкурили немцев. Соорудили там печку из бочки, трубу провели в окно. Топились досками, разбитой мебелью, книгами – всем, что попадалось под руки и что можно было засунуть в жерло ненасытной бочке. Но все равно было холодно, и ребятишки согревались друг от друга. К тому же немцы оставили в брошенных топчанах множество вшей, пацаны расчесывали тело в кровь, но и с этим как-то свыклись. Пробирались в подвал по грудам битого кирпича, в пробитой во многих местах крыше виднелось небо, оттуда шел снег, ребятишки скользили по наледи, но это тоже было привычно. В одном месте надо было подлезать под разрушенную лестницу. Откуда-то с высоты, чудом удерживаясь на ржавой арматуре, словно развернутые меха гармони, повисли ее пролеты вместе с ободранными перилами. Однажды пролет рухнул. Был ветер, ребята в потемках пробирались «домой», некоторые уже проползли под лестницей, трое не успели. «Гармошка» сорвалась и похоронила их под собою. В том числе и дядю Шуру. Сколько пробыл там, в бетонной ловушке, он не знал, потому что сознание потерял сразу же: такая была боль. Те, что спаслись, утром позвали взрослых. Их откопали, благо достаточно было ломов. Двоих вытащили уже мертвых, со страшными ранами по всему телу, а дядю Шуру откачали, все хлопали его по плечам и говорили, что он в рубашке родился и что ему повезло: ссадины и шишки – это ерунда, до свадьбы заживет. Но правая рука была отшиблена напрочь, не сгибалась и не разгибалась. Он крепился, терпел боль, но слезы сами катились из глаз, он прижимал изувеченную руку, грел ее у живота, а боль сгибала его пополам. Ребятишек определили в детприемник. Там врач осмотрел руку, ощупал, сказал, что перелома нет, что это сильный ушиб, сдавливание, пообещал, что скоро все пройдет. Детей распределили по детским домам, и дядю Шуру отвезли в Дубовку, потому что дошкольников собирали там. Было это весною 1943 года. Дяде Шуре исполнилось 6 лет.
Рука болела и болела, врачи обследовали его, лечили, как могли, но рука начала сохнуть, и ему поставили диагноз: костный туберкулез.
Забыл ли дядя Шура отца? Нет, конечно! Он ждал его и верил, что отец жив, что он приедет за ним, как только окончится война, приедет и заберет домой, как забирали некоторых ребят нашедшие их отцы и матери. Но время шло, и никто не приехал к нему, и только во сне видел еще дядя Шура своего отца да рисовал на листках, когда давала воспитательница карандаш, лихого кавалериста в шинели и с шашкой в руке…
Дядю Шуру отправили в санаторий, который находился на реке Бузулук. Ему там нравилось: были там лес и река, ловились рыба и раки, и кормили хорошо. Спустя много месяцев вернули в Дубовку. Рука болеть вроде перестала, но туберкулез успел съесть часть кости, локоть остался неподвижным, а все, что ниже локтя, сделалось тощим и бледным. Так и вырос. Так и живет.
Что осталось в памяти от детского дома? Драки. Много драк. Бесконечные. Каждый день.
Они были детьми войны, у каждого был свой фронт, и потому они дрались совсем не так, как домашние мальчишки. Те бились до первой крови и потом, разобравшись, кто сильней, расходились по домам. Детдомовцу уходить было некуда. Он должен был оставаться здесь же, в этой стае, выбранной не им, загнанный в нее волей обстоятельств, сиротской судьбой, и место свое в этой стае он должен был определить сам. Крепкими зубами и беспощадной жестокостью. Поэтому дрались не до крови. Дрались до полной победы. Или до полного поражения. Это уж кому как повезет.
Пусть у тебя из носа хлещет юшка, пусть разбита губа и шатаются зубы, но внутри ты еще полон злобы и рвешься в бой. А вокруг – орущая толпа, жаждущая крови и зрелищ, машет руками, подбадривая бойцов. Слабака презрительно втаптывали в грязь, с ним никто не хотел дружить, и он превращался в изгоя, в серую тень без лица и имени. Что взращивалось-то? Умение звереть моментально, дыбом поднимать на загривке шерсть и, забывая себя, рвать зубами и бить чем попало. Занять место в иерархии. Установить кто кому должен подчиняться. Все это – в таких драках. Закон кулака. Закон силы. И – горе слабому, больному, калеке. А ведь были они еще детьми.
Их надо было лечить, как сейчас говорят, где-то в реабилитационном центре, но таких тогда не было, и им приходилось уходить в жизнь такими вот. После нескольких поражений дядя Шура стал драться локтем. Выучился. Натренировался. С разворота, всей тяжестью тощего тела – локтем – в глаз! Несколько таких стычек – и от него отстали. Даже побаиваться начали.
– Один лишь раз был я начальником, – вспоминает он. – Приезжала в детдом делегация французских профсоюзов. Обед нам устроили шикарный вместе с гостями. Они говорили о том, что нет у них детских домов, что их сироты бродят по улицам и умирают с голоду. А нам – хорошо. О нас заботится государство. Вот они у себя тоже устроят революцию, и тогда… ну и так далее, в том же духе.
А потом был концерт. И дядя Шура в бумажной бескозырке, в голубом гюйсе на белой рубашке и в черных штанах изображал капитана корабля и громко кричал в бумажный рупор: «Причалить к берегу! Спустить трап!» Единственное светлое воспоминание… Да, еще работал он на строительстве стадиона по-ударному, это все заметили, и на какой-то праздник ему вместе с другими отличившимися дали повышенный обед. Даже кусочек халвы лежал на тарелке.
А так что же? Серое, тоскливое, казенное существование. Одиночество. Пустота вокруг. Бесконечные обиды: «Ну ты, калека! Локоть!» – именно с ударением на последнем слове. И невозможность кому-то пожаловаться.
Дядя Шура вздыхает, когда говорит о том, что не знает, где похоронен отец. В какой-нибудь братской могиле. Безымянным. Да и могила уж та сровнялась, поди, с землей, заросла травой, – сколько их, таких-то! И нет возможности хоть иногда сходить на родной холмик, посидеть там, поплакать, чтобы облегчилась душа, чтобы сполз с нее камень, тяжелой чернотой лежащий на ней всю жизнь. Даже этой малости — родного креста – и того лишила его война!..
Самую большую обиду, считает дядя Шура, нанесла ему директриса, Евгения Эдуардовна. Теперь он понимает, что, может, и она не виновата, а была бумага сверху, дескать, всех старше четырнадцати лет – выводить из детдома. В техникумы, в училища, в колхоз. В первую группу не попал дядя Шура потому, что успел он окончить к своим четырнадцати годам лишь 6 классов, хотя учился неплохо: до сих пор помнит все стихи, что учили в школе. Во вторую – понятно: какое же училище примет его, калеку. И потому попал парнишка в группу третью, отвезли его в колхоз, в деревню Родники, в руки тамошнего председателя Федосьи Алексеевны. Из детства – сразу во взрослую жизнь.
Кто такой был колхозник в 50-е годы? Парий! Революция 1917 года называлась пролетарской, и потому вся жизнь советского государства была направлена на удовлетворение нужд рабочего класса. За счет кого? А за счет крестьянина! Да, убожество. Да, коммуналки. Да, тяжелый и зачастую вредный и изматывающий труд. Но жилье через сколько-то лет – на, где и вода, и ванна, и туалет! Но кино, театры, отпуска, наконец, путевки в санатории, летом детей – в пионерские лагеря. А колхозник? Дом – какой уж сам построишь, вода – в ключах, туалет – в бурьянах, баня – на задворках. Продукты? А про налоги забыли? Яйцо, хоть и кур нет, – сдай, молоко, шерсть и мясо – тоже сдай. Хлеба захотел? А в город поезжай! С мешком. Чтобы надолго хватило. Заработок – тощий, а зачастую и совсем легковесный трудодень. Нищета беспросветная. Убогие, из самана лепленные избы, в большинстве своем крытые соломой. К тому же в те годы свирепствовала в наших краях засуха. Отсюда – настоящий голод. Кто мог, из колхозов пытался бежать. Но куда? Паспорта – и те у колхозников отбирали. Крепость!..
Я убежден: колхоз мог бы, используя не совсем ординарные способности попавшего к ним мальчишки-полукалеки, послать его, скажем, на курсы счетоводов, и дядя Шура прожил бы вполне сносную жизнь сельского интеллигента, работая в конторе. Мог бы! Но ни у кого даже мысли такой не возникло. Сирота? Ну и хлебай себе на здоровье свое сиротство полной чашке, а у нас и своих забот-хлопот – полон рот! Мелкой затычкой стал в деревне дядя Шура, придурком, которого гнали на самую дешевую и унизительную работу. Он пас баранов – племенное ядро колхозной отары, но их, баранов, было мало, и потому оплата за них – мизерная. Он пас телят, которых еще нельзя было отправлять в стадо. Он пас быков, на которых мальчишки отвозили зерно от комбайнов. Днем он тоже мотался в бричке от комбайна к току, а ночью, когда все спали, он пас этих быков, потому что к утру они должны быть сыты и весь день работать.
Вот когда вспоминать стал дядя Шура о детском доме как о потерянном рае. Там ведь что: все по справедливости! Горе у всех одно, и дают всем все одинаково. В столовую – три раза в день. Хоть не до сыта, зато регулярно. А тут – за каждый кусок еще покланяться надо! Сиротство – оно детским домом не кончается. Там оно лишь начинается. А продолжается оно потом, за его стенами, среди чужих людей, которым сам ты – тоже чужой. Навсегда, на всю жизнь.
Как-то пришла разнарядка в колхоз: послать столько-то человек в город Камышин на курсы трактористов. Сколько-то ребят набралось, а одного не хватало – и послали дядю Шуру.
Эх, как он обрадовался! Думал: выучусь, сяду на трактор, хорошо зарабатывать стану – тракториста все уважают. Он видел себя в промасленном комбинезоне, видел, как повариха уважительно первому подает ему тарелку с борщом, видел, как идет он по деревне – медленно, вразвалку, уважая себя и ловя на себе почтительные взгляды… Учился с азартом. Понимал: диплом тракториста – пропуск в совсем другую жизнь. Голодный был – колхоз гроши выделил ученикам, а из дома помощи ждать нечего, потому как и дома – нет. Но вытерпел все, выучился! Лучше всех сдал экзамены. Всего одна четверка была – по агрономии, а так – все пятерки. Приехал в колхоз – а трактор ему так и не дали: чужой – он и есть чужой. Хлебная работа – она для своих только… Вот так: поманила судьба – и махнула хвостом, разметав все мечты. Еще один камень улегся в душе дяди Шуры и долго лежал там, пока с годами не рассосался, лишь тень черная осталась.
Несколько лет жил дядя Шура вообще вдали от деревни. Стояла в степи, километрах в двадцати, изба саманная, и жили в ней пастухи, что выпасали молодняк. Все попеременно работали: неделю – здесь, неделю – дома, а дядя Шура один, ему подмены нет, ему ехать некуда: у него и дома-то нет. Больше десяти лет так-то… Ел то, что повариха приготовит. Затируху да баланду. Это в тракторные бригады мясо давали, а пастухам – и так сойдет, им и постное — хорошо.
По праздникам мужики напивались, да и без праздников – тоже пили. Тоска нападала на дядю Шуру. Озлобился он, одичал, замкнулся в себе. Он забирался на нары, забивался в свой дальний угол, принадлежащий ему по праву вечного здешнего жильца, укладывался на продавленный и грязный соломенный тюфяк, накрывался телогрейкой и начинал мечтать. И мечты у него все были простые, земные. О своем доме мечтал, об огороде, на котором он все для себя будет выращивать, о садике с яблонями и абрикосами, о своем погребе, наконец, где в бочках будут у него свои квашеные капуста, помидоры и огурцы.
Эта мысль, мысль о доме захватила дядю Шуру целиком, превратилась в «одну, но пламенную страсть», и он эту страсть «во тьме ночной вскормил слезами и тоской». Я говорю здесь высокими словами лермонтовской поэмы вовсе не для красы. Силу страстной мечты о собственном доме, овладевшей несчастным насельником одинокой степной избушки, где вечно грязный, заплеванный и забросанный окурками пол, где часто пьяные пастухи, не сумевшие почему-либо продать краденую дробленку, и где веселая повариха крутила с мужиками любовь чуть ли не на его глазах, эту силу страсти по-другому не передать.
Человек без дома – ноль! – смею утверждать я, потому что столько рассказов наслушался на эту тему от отцовских друзей, что, думаю, имею такое право. Каждый рассказ – долгая повесть, полная обид, горечи, унижений и многих лет загубленной жизни. Нет повести печальнее на свете!..
Ну, а если не было у тебя своего уголка и нет – горе тебе! Перекати-полем, степной колючкою будет носить тебя по жизни, пока не окажешься ты где-нибудь на дне глубокого оврага, откуда уже никогда не выбраться. Хорошо, если просто сопьешься. А то можно кончить жизнь свою где-нибудь на тюремных нарах. Что и случилось со многими детдомовцами…
Дом – начало всему! Он – главный корень, которым человек цепляется за жизнь и дает жизнь новым человекам – своим детям. Никто не оставил дяде Шуре никакого жилья. Он должен был сам основать свой дом, стать тем корнем, от которого пошла бы вновь ветвь рода Тиханченко и, может, расцвела бы пышным цветом. Такие вот мысли бродили в голове дяди Шуры долгими ночами и днями, пока жил он в степной халупе. Мысли оформились в мечту, мечта звала к действию. Она, эта мечта, можно сказать, спасла его. Он не спился, не умер, не сошел с ума. Он шел к осуществлению своей цели последовательно и настойчиво. И она же, эта мечта, которую принялся дядя Шура осуществлять, впоследствии раздавила его. Не рассчитал. Слишком мало сил оказалось у дяди Шуры для осуществления по-своему грандиозных планов. Хотя чего уж грандиозного было в этих планах? Но целых десять лет он не пил, не курил: экономил. Каждую копеечку откладывал.
Деньги копились медленно, ох как медленно! Как ни лютовал по отношению к себе дядя Шура, как ни отказывал в самой малой слабости – чайку там с конфеткой на праздник или мороженого, когда удавалось попасть в Дубовку, – нужная сумма все никак не собиралась. Слишком мал был заработок в колхозе, а со стороны больше взять денег было неоткуда.
Но вот в конце уже 70-х ему повезло. Уезжал из деревни мужик один. Самый распоследний пьяница. У него и купил дядя Шура дом, как говорился, по случаю, а потому и не слишком дорого. На самом краю деревни. Под горою, ближе к Волге. Так себе домишко, флигелек в два окошка. Гнилой и трухлявый, выстоявший добрые полтораста лет, он продувался зимними ветрами так, что дядя Шура кутался во все свои одежды, а согреться все равно не мог. Большую часть дома занимает русская печь, остальное пространство разгорожено деревянною стенкой: вроде бы кухня и зал. Но дядя Шура был счастлив безмерно. Наконец-то у него есть свой дом! И огород при доме, и погреб! Чего еще надо? А что мал домишко – это мы перетерпим. Это – пока. Там видно будет. Еще отгрохаем дворец – на загляденье всем! Еще покажем!
Устроившись в домишке своем по-хозяйски, наладив огород и полив на нем, оглядевшись, заложил дядя Шура дом. Не сразу заложил, конечно. Нужны были цемент, камень, песок. Все это стоило денег. Но экономить для дома дядя Шура научился давно и потому на свой проект денег не жалел. А возмечтал он о Доме. Именно о Доме с большой буквы. Чтобы был он просторный, высокий, светлый. Чтобы был в нем водопровод, а тепло по нему шло от своего водогрейного котла, как у людей. Но главное, чтобы был он домом-крепостью: прочным, несгораемым, вечным.
Задумал он его сложить из серого дикого камня-бута, которого вокруг деревни – пруд пруди. В стародавние времена добывали его сельчане и клали из него изгороди, кухни, бани. Шел он и на фундаменты домов. А дядя Шура решил сложить из него весь дом. А чего: цементный раствор и камень – крепче не придумаешь! Конечно, знающие люди над ним смеялись: нельзя, мол, так-то строить. Нет ни у кого такого дома. Но дядя Шура решил строить так, как решил. Он был упрям, да и денег на кирпич все равно не было. На то, чтобы нанять каменщиков – и подавно. Ну, а то, что смеются – пусть!
И здесь я начну рассказывать, в какую добровольную каторгу вогнал себя этот человек, чтобы вы поняли силу духа его, терпения, трудолюбия и, повторюсь еще раз, демонического упорства.
Работа – ну это как у всех. Затем – по балкам: искать камень. Отбивать его ломом, стаскивать в кучи. Потом долго бегать за трактористом, манить его бутылкою, чтобы привез камень ко двору. Затем – песок. И – главное – цемент. Его в те годы не больно-то было в свободной продаже. Надо было узнавать, ловить момент, опять же нанимать машину или трактор и привозить домой.
Ну, а дальше – просто: меси раствор, выкладывай его в опалубку, клади слой камня и снова – меси раствор, выкладывай в опалубку. Кругом – один, рука – тоже, считай, одна. Труднее стало, когда стены уже поднялись, и работать можно было лишь с лесов. Раствор – в тазик, тазик – наверх с одной рукой, камень – туда же, тоже с одной рукой! С утра – на работу, между делом – огород. Прополоть, окучить, опрыснуть. Дом молчит, а зовет. Летние вечера долгие, на очередной стенке и ночь встречал. Глядь – камень кончился. На завтра – в балку с ломом. Потом – за трактором. Заодно и песку привезти. К осени кончался и цемент. Ну, ничего, за зиму запасем!
Не год, не два – восемнадцать лет крутился так дядя Шура!
Дом рос, его стены поднялись уже высоко. С обезьяньей ловкостью научился дядя Шура взбираться по своим хлипким лесам с тазиком раствора или камня на самый верх, и у него от радости порой захватывало дух. Он видел со стены сельское кладбище, Волгу, плывущие по ней пароходы и баржи, лесистый остров, бывший когда-то левым берегом реки, и, забываясь в работе, начинал даже что-то напевать. Уже сельчане, плававшие пароходом в Саратов, говорили ему, что дом его с реки виден издалека. Уже запас он дверные и оконные блоки. Уже привез он доски на пол и потолок, заготовил трубы на водопровод и отопление. Он привычно бегал в балку за камнем, привычно же нанимал трактористов с тележкой, привычно ездил в Дубовку за цементом, который в последние годы стало легче доставать – он творил! И с каждым днем хоть чуть-чуть он приближал свою мечту! В двух углах высота стен достигла уже того, чтобы на них можно было класть потолочные балки, но тут страшная беда поразила его. Однажды он заметил трещину. Тонкой извилистой змейкой шла она от фундамента вверх по стене. Поначалу дядя Шура не придал ей особого значения. Но потом увидел вторую, третью, потом их стало все больше и больше, потом в некоторых местах разломили они стены на неравные части.
Трудно сказать, в чем причина его несчастья. Скорее всего, не выдержал фундамент: слишком тяжел оказался для него дом, и – осел. А может, виноваты подпочвенные воды, что почти рядом выходят здесь на поверхность. Скользя по плотному песчаному водоупору, они подмыли слой почвы, произошел маленький, чуть заметный оползень, и дом повело в разные стороны. Возможно, что и сама идея дяди Шуры создать свой дом из раствора и камня оказалась порочной и дом получился как полусырой пирог, каким кормили его в послевоенную голодуху. Пирог из отрубей, лебеды, желудей и молотой макухи. А начинка – тыква. Все – из подручных материалов. Все – как его жизнь!
Он, конечно же, пытался спасти свое детище, торопливо стал выкладывать стены изнутри, пытаясь остановить трещины. Ему хотелось охватить его руками, свой дом, стянуть его, как обручем, чтобы стоял он и не рушился, но трещины множились по всем стенам, разделяя их на неравные части. Бессильно опустил натруженные руки дядя Шура. Все! Конец всему!
Человек всего лишь хотел иметь свой дом. Свой дом! Своими руками! Надежный и крепкий. Просторный и светлый.
Огромной серой молчаливой многотонной массой навис над маленьким домишком незавершенный остов несостоявшегося счастья. Дожди и морозы расширяют щели в стенах, ветер свищет осенью и зимой в пустых оконных и дверных проемах. Лет пять уже не прикасается к нему дядя Шура. Все! Выгорела душа. Он сразу вдруг ослаб, стали наваливаться болезни, глаза потухли – он сдался. Понял, что судьбы ему не одолеть.
Купил немного кирпича, обложил снизу домик свой, чтобы не дуло из-под пола. Занялся огородом и, наконец, увлекся идеей провести в него воду из ключей, что выбиваются из-под горы почти рядом. Они, вероятно, и стали причиной его несчастья. Он не запил. Не махнул на все рукой. Но, чувствуется, надломился. Интерес к жизни угас. Ничего уже не будет в жизни нового. Будет лишь то, что было уже, что он многажды видел. Он начал просто доживать. А дом? Махнул рукой: да пусть стоит…

Послушайте. Вам никогда не приходило в голову, что Россия – страна сирот? Страшно подумать, сколько легло в землю граждан этой страны в XX веке! Наверное, не меньше половины ее нынешнего населения. В Первой мировой. В Гражданской. В проклятые 30-е. В трижды проклятой Второй мировой. Десятки миллионов… У многих из них оставались дети. Некоторые из них выжили. И попали в детские дома. А потом, вырастая, уходили во взрослую жизнь, формируя вместе с теми, кто прошел тюрьмы и лагеря, особый менталитет.
Иногда некоторые бывшие детдомовцы приезжают в Дубовку. В основном летом, конечно. Раньше – чаще, теперь – реже. Собираются за столом, у нас в беседке. Поют свои песни, что-то вспоминают. Чужие, в сущности, друг другу люди. У каждого за плечами – собственная прожитая жизнь. Вроде бы своя, но много общего. Никто не стал из них тем, кем бы он мог стать. Так – прилепились, кто где мог, лишь бы кормиться, лишь бы выжить. Женились тоже как-то в впопыхах, лишь бы прилепиться. Почти никто не был в браке счастлив. И – квартирный вопрос. Ох, и помытарил он их!
Где-то на Валааме открыло государство хитрый Дом инвалидов. Для участников войны. И свезло туда, на остров посреди воды, всех калек: безруких, безногих, а то и вовсе без того и другого. Спрятало с глаз людских. И они там доживали. Художник один, забыл его фамилию, как-то побывал там. Создал целую портретную галерею этих людей. «Лики войны» называется. Портреты – кровь стынет, когда вглядываешься в них, – столько беспощадной правды, столько муки за так вот прожитую жизнь, за отверженность, никому ненужность в награду за жертвенность! Они Родине отдавали последнее, что было, а Родина их – вот сюда, на остров, чтоб ни доехать до них, ни доплыть. Я понимаю: они были никому не нужны. Иx подбирали на улицах, где, сидя на своих тележках, побирались они ради Христа.
«Лики войны». Я смотрю на наших гостей и вижу почти те же лики. Может, чуть помоложе. Но сходство — поразительное. Не калеки, нет! Но столько хватили в жизни! Судьба одним резцом ваяет и лики калек войны, и лики ее сирот, подранков.
С раннего детства меня поражает отношение отца к праздникам. Кругом веселье, шум, гам, а он – через силу. И – тоска.
– Папа! Но ведь День Победы сегодня! Это же твой праздник! Можно хоть в такой день?!
– Да как сказать… Уж если родители остались там, в черной полосе до Победы, а сам до икоты нахлебался сиротской доли, то какое веселье?.. Горе – оно навсегда горе.
Что такое судьба дяди Шуры в истории России XX века? Смею утверждать: это плата за Победу!
Сегодня, спустя 60 лет, мы все еще боимся назвать чудовищную цену победы. Мы боимся! Ибо кровь стынет в жилах, когда начинаешь вдумываться в это.
А тогда, в 1945-м, люди бы просто не смогли жить и поднимать страну, узнай они всю правду. Она, эта правда, просто раздавила бы их. Тема была запретной. Не думать! Забыть! Вперед – к сияющим вершинам! Народ погнали дальше, к новым подвигам. Горькая судьба дяди Шуры – лишь малая капля в безбрежном море горя, что принесла с собою война.
Что он видел в этой жизни? Радовался ли он ей? Он, который во всех бедах привык черпать силы лишь в самом себе?
За всю жизнь он ни разу не носил хорошей красивой одежды. Ходил в том, что давал колхоз в качестве спецодежды: телогрейка, сапоги да черный или серый хлопчатобумажный костюм. Широченные штаны, в которые всегда можно было всунуть двоих таких, как дядя Шура, пиджак с навечно загнутыми лацканами, мятый, уродующий и без того неказистую его фигуру. А что ел? Лишь хлеб да сахар покупал в магазине. Остальное – то, что выращивал в огороде. Ведро топленого сала выменивал у сельчан на картошку, этого ведра ему хватало на год. Все, что зарабатывал, все вбухивалось в дом.
Всю жизнь готовился к какой-то иной, новой жизни. Вот, думал, дострою, а там… Но ведь не будет уже ничего! Не будет другой-то жизни! Одна она у Бога, всего одна!..
Он так и не женился, всю жизнь прожил бобылем: «А куда я приведу жену – вот в эту развалюху?» Нет и не будет у него детей. Засохнет вместе с ним веточка рода Тиханченко. Война навечно вычеркнула этот род из списков человечества. Он никого не винит в том, что досталась ему такая доля: что поделаешь – война…
Иногда он думает вот о чем. А как же там, на той стороне? Ведь как бы то ни было, а мы победили, все-таки мы поставили Германию на колени, и она так, в прахе и руинах, уничтоженная и разоренная не меньше нашего, стояла пред всем миром и, опустив голову, просила прощения. Ведь были же и там сироты! Много сирот! И выпала им такая же горькая судьба, как и ему, хотя он на этой стороне, стороне победителей. О чем думали они, эти дети, вспоминая своих отцов? Возникал ли у них вопрос: зачем? ради чего? И через какие беды и обиды прошли они, пока как-то устроились в этом сложном и таком безразличном к судьбе несчастных мире?
Даже если бы дядя Шура достроил дом, он не был бы счастлив. Он так бы и остался угрюмым, замкнутым, одиноким человеком, живущим в своем каменном доме-крепости. После многих лет такой жизни, что выпала ему, человек уже не меняется. Но и дома-то дядя Шура не достроил. Жизнь – не сказка. И мы оставляем его в маленькой ветхой избушке на самом краю села Стрельно-Широкое. Под горою.
…Поколение тех, кто прошел войну, смывает время. Вместе с ними уходят и те, кого осиротила война.