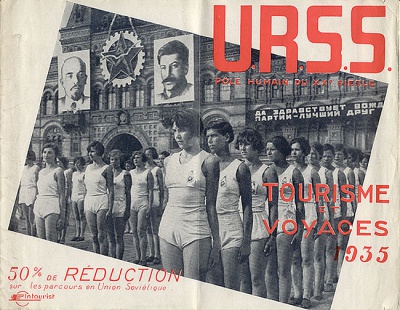Екатерина Конева «Великая ломка». Сибирская глубинка в 30-е годы (по материалам публикаций газет и воспоминаниям жителей Маслянинского района Новосибирской области)»
И в мире нет людей бесслезней…
Новосибирская область, Маслянинский р-н, с. Елбань,
средняя школа, 11-й класс
Научный руководитель: Т.Ю.Нерода
Первая премия
Так сложилось, что я воспитываюсь в семье бабушки и дедушки – Сизиковых Веры Антоновны и Ивана Никифоровича. Жив и мой прадед Никифор Несторович, ему 88 лет. Все они крестьяне, крестьянами были и многие из их предков, пришедших «из России» в 90-х годах XIX и начале XX столетия в благодатный сибирский уголок. Их судьбы мне интересны, старики многое пережили, и им есть что рассказать. В их воспоминаниях – и светлые, радостные моменты, и горькие. Хорошее – рождение детей, отношения в семье. Плохое – все, что, так или иначе, шло «сверху, от власти». Эта закономерность прослеживается в судьбах родственников и по бабушкиной, и по дедушкиной линии. Да и все старожилы, с кем мне приходилось общаться, говорят то же самое, особенно про 30-е годы: власть по отношению к крестьянству «была слишком строгой», «беспощадной», «жестокой». Кто-то считает, что иначе быть не могло – «такое время было», кто-то обвиняет «перегибы на местах», кто-то видит корень зла в отдельных людях, представлявших власть, в их дурном характере.
Сибирские крестьяне, «достаточные» хозяева, восприняли коллективизацию как большую беду. Их нежелание обрекать себя на новое крепостное право навлекло на них жесточайшие репрессии: уже в начале 1930 года органами ОГПУ было расстреляно в Сибири около тысячи «контрреволюционеров», в первые месяцы 1930 года было арестовано более 10 тысяч «кулаков», а к лету 1930 года – раскулачено более 60 тысяч[1].
Как же крестьяне реагировали на происходящее? Известны восстания целых деревень в Омской области, выступления на Алтае, у нас в селе дважды горел льнозавод – в 1930 и в 1937 годах.
Чаще же протест выражался в уничтожении собственного добра. Но уже к середине 30-х годов сопротивление было в основном сломлено. Крестьяне учились «жить по-новому», а точнее сказать, выживать в новых условиях, приспосабливаясь к новой власти.
Я обратила внимание на некоторые моменты, свидетельствующие о том, что многие семьи не только выживали, но умудрялись в жутких условиях более менее сносно накормить детей, одеть – отнюдь не благодаря колхозному «изобилию», а благодаря крестьянской смекалке, хитроумности, мудрости. Это была вынужденная форма своеобразного сопротивления труженика-крестьянина той власти, под которой, силой обстоятельств, он оказался.
Работая над собранным материалом, я впервые почувствовала масштабы трагедии 30-х годов, хотя эта страница отечественной истории и была мной уже изучена на уроках. Так больно было всматриваться в людское горе, спущенное сверху теми, кто олицетворял большую власть. Передо мной прошли искалеченные судьбы людей, слушая их горькие исповеди, я плакала вместе с ними, возвращаясь к тем страшным дням.
Для крестьянина власть – это прежде всего должностные лица, которые пользовались определенными властными полномочиями, управляя на местах. Это – конкретные люди, разного ранга, разного социального уровня, но для большинства крестьян они объединялись одним словом «начальник». Туда относили и секретаря райкома ВКП(б), и колхозного учетчика, и председателей сельского совета и колхоза, изаведующего фермой, и ветфельдшера… Словом, начальства на голову крестьянина хватало.
Передо мной газета «Социалистическое льноводство» за 15 января 1937 года. И первое, что бросается в глаза – заголовок заметки «Жить стало лучше». Поражает уже первая строчка: «1 января 1937 года мне стукнуло 120 лет (теперь у нас столько не живут, потому что был уже Семипалатинск и секретные испытания, сегодня у нас район один из первых по онкозаболеваниям. – примеч. автора), но живу-то я всего лишь 19 лет – со дня великой пролетарской революции… В часы досуга, когда мой внучек садится за очередной урок изучения доклада великого человека и нового закона сталинской конституции, я подсаживаюсь к нему рядком и внимательно выслушиваю каждое слово, каждую победу…
Большое и сердечное спасибо товарищу Сталину, что он, великий человек ума, вывел страну и народ в жизнь. Пусть он, великий вождь, живет на благо нам много, много лет.
Меновщикова Акулина Пантелеевна Деревня Петушиха»[2].
Я не случайно начала свою работу с этого письма: за два года(1937–1938) на страницах «Социалистического льноводства», органа Маслянинского РКВКП(б) и РИК, я насчитала 1963 публикации, напрямую выражающие любовь и благодарность вождю, отцу, мудрому последователю Ленина – Сталину. Цифра более чем внушительная. И, естественно, встал вопрос: что это? – заблуждение малограмотных людей? (ведь сегодня любой школьник знает, что 37-й год – это всеобщий страх, это тяжелый рабский труд без вознаграждения, это сломанные судьбы миллионов безвинных); или за этими признаниями кроется что-то другое, отражающее суть режима?
Это вопрос я задала и своему прадеду Никифору Несторовичу, 88 лет, потому что прочитала и его письмо – колхозного охотника Никифора Сизикова, перевыполнившего план по пушнине в 2 раза («Социалистическое льноводство», 3 декабря 1937 г.). В письме он тоже говорит о том, что доволен жизнью и «готов для родного государства увеличить в 3 раза» добычу зверя. Это он-то доволен, тот, кто в одночасье стал нищим, свел на общий скотный двор и коров, и лошадей, пережил 1932 год, когда в Нарым был сослан его дед Григорий в возрасте 62-х лет?
– А что ты хотела, чтобы и меня отправили туда же? Хвалил, потому что селькор дал задание и даже написал сам, я только подписался. Я ж понимал, что написать можно и пять норм, а выполнять не обязательно. Главное не возражать да власть при случае со Сталиным похвалить.
Вот он, случай, показывающий одну из особенностей отношений крестьянства с властью: со стороны власти – давление, в данном случае методом пропаганды, со стороны крестьянина – внешнее согласие хвалить то, что душа отторгает. Читаю уже в следующем номере того же «Социалистического льноводства» заметку о Софье Алексеевне Родниковой. Она делится своими впечатлениями о конституции 1936 года: «Новая конституция – это счастье…» Слова «сердечной благодарности за счастливую и радостную жизнь» товарищ Родникова шлет Сталину, «который вывел народ на просторный путь зажиточной и культурной жизни»[3].
Обратимся же к реалиям этой жизни. Маслянинский район в 1937 году насчитывал 23 колхоза, 1 совхоз. К этому времени перестал быть актуальным лозунг ликвидации кулачества, кулаков уже «истребили», но остались крестьяне-колхозники и так называемые единоличники. Поэтому борьба продолжалась.
Надежда Ивановна Сбоева: «Мне было в 1937 году – 7 лет.Ноясегодня не помню так хорошо события вчерашнего дня, как этого года. Мать и отец вступили в колхоз сразу же, как только начали туда загонять, – в 1932 году. Я не помню дня, чтоб кто-то из них был с нами. Мы, еще маленькие, никогда не видели их ухода в поле, а вечером не слышали их возвращения. Жили сами по себе. Летом было легче: ели пучки, лебеду, одуванчики, ягоды. Картошки на лето никогда не оставалось, потому что осенью большую часть отдавали на сельхозналог. Драники и те были в радость, как сегодня «Сникерс» для внуков. Помню леденящий страх, когда приходили требовать уплату недоимок по сельхозналогу. Мать в одну зиму от властей утаила, что растим поросенка, продержали его до лета, а в конце августа решили зарезать. Отец сделал это ночью в сарае, утащил его за деревню, в бурьяне слабенько жгли костер, калили кочергу и ею, раскаленной, чистили шкуру. Сильно-то смолить было нельзя – могли заметить, донести…»
А бояться было чего, об этом свидетельствует и «Разъяснение прокурора» от 16 февраля 1937 года. «В связи с тем, что по району имеются случаи нарушения постановления ВЦИК и СНК о запрещении опаливания и ошпаривания свиных и поросячьих шкур свиней и поросят, павших от незаразных болезней <…> за нарушение частные лица подлежат уголовной ответственности по статье 105 УК РСФСР»[4].
Интересно, что такой способ утайки свиней и их обработки – «в лесу», «в овраге» и т.п. – обнаруживается практически у всех, переживших 30-е годы. Более того, детей надо было еще и одеть, обуть, а потому умудрялись шкуры еще и тайно выделывать. Моя бабушка, Вера Антоновна Сизикова, вспоминает, как мать рассказывала об этой воистину героической операции, которую проделывали и ее родители, и соседи. Ночью шкуру в бочке с раствором из осиновой коры вывозили за скотные колхозные дворы, закапывали в навоз, где она находилась до трех-четырех недель, примерно месяц. Затем, также тайно, под покровом ночи, откапывали и привозили домой, где она пряталась то в огороде, то в темном углу подполья. А ночью, при слабом свете луны или сальника, «выделывали» – ее мяли, скоблили. Позже шили детям «обутки» – нечто среднее между ботами и сапогами. Обувь была грубая, растирала ноги. Если высыхала сильно, то с ног снять ее можно было, размочив предварительно в воде. И все же это была обувь на два сезона: защищала ноги от промокания в осенне-весеннее время. Летом вся детвора обходилась без обуви: от года и до «жениховского» возраста ходили босиком до самого снега.
И взрослое население деревни, и дети одевались одинаково убого: и в дождь, и в сорокаградусный мороз телогрейка или, как говорили старики, «куфайка» была у многих единственным предметом верхней одежды. Районное начальство могло позволить себе иметь овчинный полушубок и, в отличие от крестьян, носящих кирзовые или грубые «самошитые» сапоги из свиной кожи, хромовые сапоги. Выделялось на селе и местное руководство, которое стремилось подражать представителям районных властей: у многих председателей сельских советов, колхозов были и полушубки, и заячьи шапки.
Женщины-крестьянки выглядят в 30-е годы удручающе безлико, смотришь на фотографии и понимаешь, что одинаково надвинутые низко на лоб платки, одинаково серые «куфайки», подолы холщовых юбок, неказистые сапоги – символ того времени, провозгласившего равенство в нищете – «все как один».
Все необходимое белье шилось из домотканых холстов, редко перепадало «казенное» полотно, даже если и заработал его на трудодни – на всех домочадцев не хватало. Выручало то, что за работу на колхозном льне можно было получить свою долю необработанного льна, поэтому в сезон прополки, уборки на поле выходили всеми семьями, дети 7–8 лет помогали наравне со старшими.
Надо сказать, что лен в нашей местности – это особое дело и далеко не легкое. Чем больше семья сделает работы, тем больше получит льна с колхозного поля. Нормы были немалыми: в день взрослый человек должен был выполнить задание – убрать 0,25 га. А это означает вырвать вручную, связать в снопы, поставить в суслоны (десятки). Суслоны оставались на полосе до вызревания головок. Затем лен скирдовали, это, по воспоминаниям односельчан, часто делалось по ночам, после основной дневной работы в колхозе, при свете костров. Специальными «вилашками» (вилы на длинном черенке с двумя загнутыми внутрь зубцами) грузили снопы на телеги и свозили в скирды. Уже в холода, осенью, лен обколачивали вальками на специальных лавочках (сбивали головки), затем раскладывали на земле и засыпали снегом. Когда снег сходил, собирали тресту, развозили по домам и сушили в банях. Затем мяли на ручных мялках. Потом чесали его, оставалось мягкое волокно, кострика (колючая соломка) вычесывалась. Можно было прясть, ткать холсты, затем отбеливать, желательно по снежку, возле проруби, в солнечный денек, расстелив их на снегу и поливая водичкой. Готовые холсты умудрялись красить – в основном корой и отваром корней трав. Дубовая кора давала коричневый цвет, посочнее, но тоже коричневый, давал отвар ягод черемухи, свекла – фиолетовый и т.п. Конечно, цвета эти были нестойкими, до первой стирки «форсили» селяне в фиолетовых штанах, коричневых юбках. Затем все это обретало серовато-грязный цвет. На мой вопрос, что носили женщины на ногах, чтобы было теплее зимой, ответ был изумляющим: портянки, иногда носки. А как же колени, если чулок не было? – Обходились тем, что надевали две-три юбки… Это у нас-то, когда зимой морозы, бывает, доходят до –53! А, ведь, по мнению сельчан, зимы теперь стали намного мягче, чем 50 лет назад.
По свидетельствам большинства опрошенных мною бывших колхозников, на территории Елбани основная часть крестьян после «обобществления» фактически не имела личного подсобного хозяйства или же имела минимум: корову, кур. С учетом того, что семьи были большими – 5-6 человек детей – корова не могла обеспечить и самих хозяев. А благодаря свободе толкования любых законов на местах фактически никто не освобождался от налога: отдай обязательные 47 рублей и все виды натурального продукта: мясо, масло, шерсть, яйца, свиную шкуру и т.д. Если своевременно не сдал – появятся «недоимки», а это влечет за собой не только увеличение долга в два раза, но и уголовное наказание. И вынуждены были колхозники везти на рынок то, что могло им обеспечить хотя бы терпимое существование: картошку, хлеб,заработанные на трудодни. На вырученные деньги закупались те продукты, которые в хозяйстве этой семьи не производились, – и сдавались государству. Сама же семья голодала. У власти были свои цели – выполнить план сельхоззаготовок, спущенный сверху, любой ценой. А сколь высока эта цена – не очень-то волновало власть: ни в Москве, ни на местах. Люди пухли от голода, не знали вкуса мяса и хлеба, а при этом днями работали «на колхоз». Воспринималось это, правда, иначе – старики и сейчас говорят: «работали на государство». Всетоже внутреннее сопротивление крестьянина, нежелание «вымирать семьями» заставляло искать выход. Среди таких крестьянских находок были почти невероятные: умудрялись глубоко в тайге, ночью, корчевать пни, возделывать землю, готовя ее под «сокрытый от сельсовета огород». Это ли не героизм? Несколько проще было такое проделывать охотникам, они, в том числе и мой прадед Никифор, находили возможность совмещать выполнение плана по пушнине с работой на себя в своем таежном огороде.
Об истинном уровне жизни крестьянина-колхозника мы можем судить и по хвалебным публикациям, изобилующим на страницах «Социалистического льноводства». Одна из таких статей, вышедшая под рубрикой «Счастье многосемейного», рассказывает: «У колхозника Аланьева Никиты Карповича семья 9 человек. Хотя и большая семья, а работников мало, но Аланьев доволен многосемейственностью. За 1936 год семья имеет 855 трудодней, получила 48 ц хлеба и 400 рублей. На эти деньги купили 7 пар обуви, 2 пальто, 3 пиджака. Трудоспособные и нетрудоспособные теперь обеспечены всем. Семья имеет корову, телку, 4 овцы.
т. Аланьев благодарит любимого вождя тов. Сталина за его заботу о трудящихся.
Руднев»[5].
Благодарить за семь пар валенок на девятьпар ног, видимо,резонно,ведь у многих и этого не было. Вспоминаетмоя прабабушка Таисия Никитична Белоус: «Пососедству жила семья Тимошенко Степана Павловича: ребятишек не считано – мал мала меньше. Всю зиму не в чем выйти на улицу, ни фуфайки, ни пимов. А хочется, особенно если рядом горка и детвора катается. Так они умудрялись выскочить босиком, скатиться с горы разок – и вхату. Сегодня смешно, а тогда плакать хотелось, глядя на них».
Газетная пропагандистская хроника предоставляет возможность оценить уровень жизни колхозника. В статье «От каждого по его способностям и каждому по его труду» рассказывается о стахановке Антонине Федоровне Карповой, которая благодаря высоким показателям «в 4 раза подняла заработки. И за трудодни, выработанные вдвоем с сыном, она получит 5 286 рублей, 129 пудов зерна, 200 пудов картофеля, 67 кг мяса и 6,7 кг шерсти”[6].
Если поделить это на двоих (на нее и сына), то все показатели уменьшаются вдвое. Если же все цифры разделить на 4, мы будемиметь представление о заработках «среднего» колхозника:
деньги – 660 руб.,
зерна – 16 пудов,
картофеля – 25 пудов,
мяса – 8 кг,
шерсти – 0,8кг.
Если учесть, что из этого заработка придется вычесть обязательный сельхозналог:
молоко – 240 л,
яиц – 200 шт.,
мяса – 44 кг – то картина получится и вовсе удручающая. Мяса надо «докупить» 36 кг, чтобы сдать государству, да и остальных продуктов для семьи на год явно недостаточно.
К этому следует добавить общеизвестную истину: учет трудодней велся безобразно, люди не получали даже этой скудной оплаты. При наличии 4–6, а то и более детей родители не могли вдвоем накормить и одеть каждого. Да и от налогов никто фактически не освобождался. Как не освобождались от них и инвалиды, если были объединены в промартели. На территории нашего села работала артель слепых из 30 человек: катали валенки, обрабатывали кожи. И также, как и все, сдавали государству яйца, мясо, шерсть и прочее. Влачили они жалкое существование, не было ни одежды, ни нормального питания. Но при этом «радостно подписывались на заемы», о чем свидетельствует статья в «Социалистическом льноводстве»:
«Дружно прошла подписка на Заем Третьей пятилетки в Мастерских Всесоюзного общества слепых в с. Елбань. Подпиской охвачены все 30 человек, каждый из них подписался не ниже 100 рублей.
Рабочие мастерских с радостью дают взаймы нашему рабоче-крестьянскому государству 3 345 рублей»[7].
Какая уж радость! Один из старожилов, чей брат работал в этой артели, рассказывал, что самих рабочих и не спрашивали, а только ставили в известность об этом их «благородном» поступке.
Тем не менее, процесс «укрепления» колхозно-крестьянской системы продолжался. 5 декабря 1938 года «Правда» публикует передовицу под названием «Воспитывать колхозников в духе строгого соблюдения колхозного устава». Уже на следующий день газета «Советская Сибирь» на своих страницах знакомит с ней своих читателей.
В этой статье комментируется постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О распределении денежных доходов в колхозах», рассматривается проблема нарушения Устава сельхозартели. Главное нарушение усматривается в том, что колхозники, вопреки интересам коллективного хозяйства, «идут на незаконное расширение приусадебных участков». А это – «проявление буржуазных тенденций». И «рост доходов колхозников должен происходить путем роста трудодня, а не путем незаконного расширения приусадебных участков». Это явилось прямым указанием к действию властей на местах: «излишки» «отрезались», если колхозник по какой-либо причине (болезнь или даже смерть одного из членов семьи) не выработал установленную норму трудодней – у него изымался и скот, даже, если это была единственная корова. Излишки же земли изымались и у служащих, интеллигенции, в частности у учителей, что хорошо помнит ветеран педагогического труда, бывшая учительница нашей школы Лидия Евграфовна Иванова, ее это «ограничение» тоже коснулось.
Если столь беспощадно пресекалась попытка колхозников и служащих жить лучше за счет труда «на себя», то что говорить о единоличниках. Условия были столь тяжелы, что фактически исчезало желание работать, особенно если случался неурожай, когда все уходило государству, а недоимки оставались. Пожилые земляки помнят случаи, когда за «саботирование» сдачи установленных норм семья высылалась за пределы села. Вокруг Елбани немало мест, которые до сих пор в народе зовутся «Выселки». Одну из таких историй ярко описывает Надежда Ивановна Сбоева: «Мы жили километрах в полутора от выселок. Их домишки, полуземлянки, сделанные наспех, были хорошо видны. Оставшись с детьми без одежды, без живности – все было реквизировано, – люди, там жившие, были обречены на гибель. Так оно и случилось: в зиму 38-го умерли почти все ребятишки, а к весне и большинство взрослых. Мы утром встаем и смотрим: если не дымится у кого труба, значит, там живых нет. Они оказались изгоями. Народ боялся помочь, так как помогать значило сочувствовать врагам. Сочувствие в то время было не в чести. И все же я помню, как одна из женщин по ночам приходила к нам, мать провожала нас на печку и кормила ее картошкой «в мундирах». Нам было смешно наблюдать, как она ела, согнувшись над столом и прикрывшись почему-то руками, было что-то животное в этом… А, провожая ее, мама рассовывала картошку ей по карманам. Я не помню ее имени, но знаю, что у нее у одной в деревне были раньше ботиночки на каблучках, мы таких никогда не видели, и платья были сшиты «по фасону». Красивая раньше очень была, и муж под стать. А что стало? – муж вообще исчез…»
Подобных примеров, приводящих нас сегодня в ужас, много: шел целенаправленный процесс уничтожения тех, кто отказался «организовываться» или вышел из колхоза, их либо «давили» налогами, либо подвергали открытым репрессиям. И всю бестолковость, неорганизованность колхозной жизни, при которой полностью отсутствовал главный стимулирующий рычаг – экономический интерес работника, объясняли происками врагов. В декабре 1937 года и.о. секретаря Новосибирского обкома ВКП(б) Алексеев докладывает Сталину об обстановке в Новосибирской области:
«Исходя из среднеобластного урожая, потери по сельскохозяйственным культурам, оставшимся под снегом, составляют: по зерновым – 677 тыс. пудов, по крупяным – 313 тыс., пудов, по картофелю – 855 тыс. пудов. План хлебозакупа в районах области на 5–6 декабря выполнен только на 27,3%. Вредительская деятельность в области животноводства характеризуется следующими данными: только за 10 месяцев 1937 года пало и пропало лошадей – 18 172, или 7,2%, крупнорогатого скота – 49 998 голов, или 8,5%, овец и ягнят – 64 512 голов, или 12,4%, свиней и поросят – 59 653 головы, или 44,3% …
Нет никакого сомнения в том, что воодушевленные Вашим указанием от 7 декабря сего года, беспощадно уничтожая фашистских извергов, в ближайшее время очистим территорию Новосибирской области от крепко замаскировавшихся троцкистско-бухаринских предателей и изменников»[8].
Насколько эффективно шел процесс поисков враговна местах, мы можем проследить по материалам газеты «Социалистическое льноводство». Анализ публикаций на страницах органа Маслянинского райкома ВКП(б) и райисполкома позволяет увидеть роль печати в пропаганде террора.
На протяжении 1933–1938 годов не было ни одного номера газеты, в котором бы не разоблачались враги. «Социалистическое льноводство» не жалело места и для перепечаток информации о судах, зверствующих вовсех уголках страны и, конечно, в области.
Возникает масса вопросов: что двигало авторами – искренняя вера во врагов, проникших во все сферы жизни, во все уголки, даже столь глубинные, как наше таежное село, или страх за себя заставлял их выражать поддержку террору, изощряясь в эпитетах? Эта проблема, по-моему, достойна отдельного и тщательного изучения и историками, и лингвистами, и психологами.
Каждая из таких публикаций отличается особым лексиконом. Процитирую лишь кусочки из них: «…принять к этим контрреволюционным псам высшую меру социальной защиты – физическое уничтожение», «…просим суд применить к подлым врагам народа самую суровую меру!», «Сердечно одобряем приговор над омерзительной фашистской бандой… Воздух стал чище … суд наказал смердящих гадов», «Беспощадно разоблачить и начисто уничтожить… Он должен быть расстрелян, как бешеный пес», «Расстрелять этого ползучего гада», «Требуем расстрелять как гада, направившего свое ядовитое жало… от гнусных наймитов кровавого фашизма…», «…в змеиный отвратительный клубок сплелись… подлое змеиное гнездо…».
Думаю, достаточно ограничиться этими примерами. Из них несложно вывести два образа мифического врага – змеи и собаки. Видимо, эти образы были вложены в сознание и обиход бдительных селян «сверху» и прочно в них засели. А уж что касается «змея», «гада» ползучего, то он и вовсе ассоциируется со сказочным Змеем-Горынычем. Только сказки 1933–1938 годов оказались кровавыми, преступными и направлены они были не на защиту «добрых молодцев», а на их уничтожение. И тем не менее, может возникнуть впечатление, что народ их принимал: более 700 писем, «поддерживающих, требующих», было написано за 2 года из деревень Маслянинского района в газету «Социалистическое льноводство».
Кажется, что политическая пропаганда, мощнейший рычаг власти, сделала свое дело – убедила всех безоговорочно верить в происки вездесущего врага. Но, вот что говорят те, кто подписывался под такими коллективными письмами, выражая «радость» по поводу очередного разоблачения: «Что касается шпионско-террористических бухаринских групп, то верили. Сомневались немного по поводу разоблачений в деревнях своего района: а кто их знает, может, и мстят властям бывшие богачи. Но когда забирали, обвиняли кого-то из своего села – в душе понимали, что никакой он не враг, да ведь вслух не скажешь. А что письма подписывали – писали их не мы, а кто-нибудь из начальников грамотных» (А.Бритова, М.Липатова – их подписи стояли под решением торжественного заседания по случаю 8 марта. В нем они «требуют уничтожить, стереть с лица земли членов правотроцкистского блока» – газета «Социалистическое льноводство», 18 марта 1938 г.).
Но были и откровенные письма – доносы, часто с указанием фамилии отправителя или подписанные псевдонимом «Свой». Интересно, кому он свой? Уж явно не тем, с кем рядом жил и торопился расправиться, видимо, «свой» органам уничтожения. Письма-доносы бдительных борцов со «змеями» шли с просьбой немедленно «заинтересоваться подрывной и вредительской деятельностью».
Среди сфер этой деятельности в нашей сибирской глубинке были фермы, правления колхоза, конюшня, школа, враг маскировался даже в лице «райуполнаркомзага»…
Все, кому «посчастливилось» жить в то трагическое время, говорят о постоянном, неотпускающем страхе за себя, за близких, за родителей. Вспоминает Евдокия Микрюкова, 1920 года рождения: «Я работала трактористкой, сама была почти ребенком. Со мной вместе работали и другие девчата. Вставали до солнца, в посевную или в уборку нас и домой ночевать не пускали – спали на нарах в мастерской. Внизу холодно, а наверху угарный газ, промучаешься всю ночь – и в поле. Там нас один раз в день кормили. Больше всего боялись поломок, спать не буду, а налажу, иначе…»
В это же время на территории Маслянинского района сменились 3 председателя колхозов, 2 председателя сельсоветов, и причина та же – обнаружилось, что они были «врагами». Люди попадали в разряд врагов подчас за пустяк, неосторожную шутку. Так Вера Ильинична Ходкова поведала о трагической судьбе своего дяди, позволившего себе спеть «клеветническую» частушку:
За стол сел – ел, не ел – вылазь,
Славь советску власть!
Атмосфера извечного страха, жизни под прессом не могла не сказаться на психологии крестьянства. Меня уже не удивляет, что по прошествии шести десятков лет многие старики по-прежнему боятся быть откровенными в своих воспоминаниях. Есть и другая категория – те, кто считают все происходившее необходимостью. Причину я вижу в мощной идеологии сталинского времени. Насаждалась она насильственно, каждодневно. Достаточно мысленно войти в школьный класс, в избу-читальню, в «Красный уголок»…
Популярны были в селах Маслянинского района громкие читки; всех, кто игнорировал их (независимо от причин), резко осуждали на всех уровнях. И люди, придя с фермы, поля, спешили в избу-читальню – слушать то очередное выступление товарища Сталина, то пьесу Максима Горького «На дне», то «Краткий курс истории ВКП(б)». Тяжело приходилось и педагогам – за каждым закреплялись «десятидворки», то есть 10 дворов, где он должен был в указанные сроки сделать всех жителей грамотными. Привычным делом в жизни колхозников были митинги по разным поводам: по случаю красных советских праздников, по случаю разоблачения очередной «шпионско-террористической шайки, члены которой… злодейски осуществили умерщвление неутомимого борца за коммунизм товарища Куйбышева, славного чекиста товарища Менжинского, великого пролетарского писателя Максима Горького» или по случаю «умерщвления» местными «последышами троцкистско-бухаринской шайки – Овсянниковым, Вороновым, Чаруном, Крайновым и другими в колхозе «Сибдолгунец» 31 лошади, в колхозе «Баррикады» 26 телят, в колхозе «Сатурн» 8 лошадей и 21 свиньи»[9].
Уже из сказанного выше видно очень наглядно, что власть, организуя «культуру новой деревни», исходила из своих политических интересов. Доказательством тому служит уже и тот факт, что в нашем селе Елбань сразу же с приходом советской власти уничтожили церквушку, построенную «на средства общества» в 1914 году. Запретили все религиозные праздники. На смену любимой масленице и другим праздникам «одурманенного религиозным опиумом» крестьянина пришли красные даты. План их проведения продумывался в райкоме до мелочей, о чем свидетельствует районная газета:
«Ко дню 1 мая все клубы, избы-читальни, красные уголки, конторы колхозов, совхозов и учреждений приводят свои помещения в праздничный вид: украшают плакатами, лозунгами, красными флагами, портретами вождей. Колхозники, рабочие и служащие украшают свои квартиры.
30 апреля – все сельсоветы проводят торжественные заседания пленумов сельсоветов. На пленумах поставить доклады о значении праздника 1 мая.
1-го мая во всех колхозах и совхозах провести собрания, беседы в бригадах, в поле, культстанах, премировать стахановцев.
Утром провести митинг, вечером – концерт самодеятельности, 2-го мая – детские утренники по всем школам»[10].
Комментарии излишни. Добавлю лишь к сказанному, что местное руководство – от председателя сельского совета до учетчика – отвечало за исполнение каждого пункта плана, а уполномоченные из района разъезжали по деревням с целью контроля. Содержание же выступлений агитаторов, равно как и материалов всех газет, сводилось к воспеванию колхозно-совхозной жизни и вождя. По истечении времени, с позиции сегодняшнего дня, многое нам кажется наивным, но тогда ведь верили, что мы-то живем неплохо, а вот «в капиталистической загранице» – совсем плохо. Да и как не поверить, если в газетах (от центральных до местных) это «доказывается» и цифрами, и письмами читателей. Газета «Социалистическое льноводство» за 1 мая 1938 года вышла под одним общим лозунгом «Два мира – две системы». Страница поделена на две части. Первая половина – «У нас» – пестрит рубриками заметок и писем «Высокие заработки», «Изобилие», «Забота о матери и ребенке» и т.д. Вторая – «У них»: «Кошку ободрал, сварил и съел», «Увеличивается смертность», «Грошевые заработки»… Поневоле посочувствуешь, если живут еще хуже нас.
Дух времени в сельской местности находил отражение и в рождении откровенно «красного» фольклора:
Дорогой товарищ Сталин
Шлем тебе мы свой привет,
В целом свете для Елбани
Однако во многих по-настоящему народных частушках, которые дошли до нас, есть и сарказм:
Ой, подруга, дроби бей,
Дорогая, дроби бей.
Раскулачили матаню
Да за сито отрубей.
Говорят в колхозе плохо,
А в колхозе хорошо,
До обеда ищем сбрую,
А с обеда – колесо.
Народ иронизировал над организацией работы в колхозе, над бесхозяйственностью, над «пустословием»:
Мой миленок коммунист,
А я беспартийная,
Больно стал теперь речист,
А я рот разинула[12].
Вряд ли можно было громко петь подобное в тех условиях (трагический исход таких попыток уже описывался выше). Но коли частушки были, они кем-то слагались. И выражали протест против власти.
Неофициальное творчество крестьян резко отличалось от газетного. В 30-е годы очень часто на страницах «Социалистического льноводства» появляются однотипные поэтические творения доморощенного маслянинского поэта В.Крепковского. Все его произведения – это гимн любви к вождю, к происходящим переменам. Стихи бедны, на мой взгляд, и языком, и образами, и техникой (рифмуются в основном глагольные окончания). Но для меня они ценны уже тем, что являются показателем того, на какие таланты опиралась власть, воспитывая новое поколение. Приведу отрывок из его творения под помпезным названием «Звезды Кремля»:
Солнце с востока плывет на закат,
(странно, что от происходящего не повернуло вспять)
Звезды над нами горят.
(видимо кремлевские, а не небесные)
Снова встает озабоченный день
(«озабоченный» – что-то маниакальное видится в этом эпитете. Возможно, сам вождь?)
Снова работа начата везде.
Снова страна повела корабли
В дальние области нашей страны.
(здесь почему-то мое воображение рисует картину того, как заключенные Нарыма тянут по суше на бечеве баржи с камнями)
Светлый, счастливый и радостный день,
Люди шагают нога к ноге
(а кто из строя выпадет, собьется? – того «в расход»)
Сила, богатство народов растет,
Молодость счастье наций цветет.
(а вот о счастье наций лучше быне говорить)
Новым советским колхозным строем
Одиннадцать дружных республик строим
(еще пока одиннадцать, но скоро и остальные хлебнут нашего колхозного счастья…)
Веками звезда будет свет проливать
(а мне чудится «кровь проливать»)
И мощь поколений, каксталь, закалять![13]
Вот такие радостно-возвышенные строчки! Они нужны были, чтобы воспитывать в духе верности идеям о скором счастье.
Этой же цели служило и радио. Сам факт его появления в районе, конечно же, положительное явление. По воспоминаниям односельчан, когда впервые заиграла музыка из «тарелки» на столбе, сбежалась вся деревня, побросав работу (в 1932 году). К 1937 году, согласно информации в «Социалистическом льноводстве», в Маслянинском районе было 773 радиоточки, которые обслуживал 1 радиоузел. К 1938 году их было уже 980.
Рост этот, конечно, определялся главным назначением – агитация и пропаганда. Так утверждать мне позволяет и газета «Социалистическое льноводство»: «Советский гражданин любит радио как могучее и действенное средство агитации»[14] – заявляет одна из многочисленных заметок. Если вдуматься, то радио психологически настраивало на ощущение радости, содержание же песен напрямую убеждало, что наше «сегодня» – замечательное, счастливое время, наша власть – самая мудрая и справедливая. И, выходит, хотел или нет колхозник, он подвергался мощному гипнотическому воздействию. Что уж говорить про ребятишек – они, подобно губкам, впитывали любую информацию, веря каждому слову, наполнялись любовью к «Великому Сталину», заражаясь энтузиазмом участия в великом строительстве.
И все же картина жизни школы далеких тридцатых не будет полной, если акцентировать внимание только на идеологии. Я на примере родной Елбанской школы знаю, что учителя, загруженные и «десятидворками», и заготовкой дров для школы (из приказа № 19 от 25 мая 1938 г. узнаю, что, начиная с 5 класса, ребята с классными руководителями сами пилили лес, вывозили его, кололи дрова[15]), были замечательными людьми. «Заполитизированность» жизни не уничтожила дух творчества и сострадания, свойственные крестьянской интеллигенции.
Частыми были школьные спектакли – играли Гоголя, Пушкина. Выступали и дети, и учителя. Рая Кудинова наизусть читала «Цыган», «Полтаву», «Русалочку». Те, кто работал в нашей школе тех лет, в частности Лидия Евграфовна Иванова, Мария Ивановна Липатова, говорят, что у детей было огромное желание учиться. Казалось, что от их знаний, грамотности скорее придет «светлое будущее». Я всматриваюсь в фотографию, запечатлевшую сводный пионерский отряд Елбанской школы 5 сентября 1935 года. Милые, пытливые лица крестьянских детей, еще не ведающих, что через 6 лет грянет Великая Отечественная война, у многих погибнут братья, отцы. Сами же они познают тяжелейший труд на лесосплаве, в поле, не достигнув 13–14 лет. А пока – время искренних надежд, хотя волна раскулачивания вовсю уже катилась по их судьбам…
Рассматривая взаимоотношения крестьянства с властью, нельзя обойти и такой вопрос, как отношения людей между собой в условиях постоянного давления этой власти. Он не прост уже по той причине, что факты свидетельствуют: многие использовали режим, чтобы устроить свою жизнь, обезопасить себя и т.п. Я уже упоминала, что на страницах районной газеты было немало писем-доносов, зачастую с указанием фамилий авторов. Их родственники живут рядом с нами, неэтично называть их, поэтому не указываю. Особенно же много кляуз подписано именем «Свой». Вот что вспоминает Мария Федоровна Шутова, 1924 года рождения: «В том страшном 37-ом году среди репрессированных двенадцати односельчан оказался и наш отец Федор Трофимович Кисилев. Он был убежденным коммунистом, но в селе его любили, работал в кооперативной торговле. К людям относился по-человечески, жалел, я так думаю, что за это и пострадал: как раз собирались переизбирать председателя колхоза, народ хотел отца, о нем даже частушку сложили:
Что нам Сталин, что Бубнов,
Коль есть Федор Кисилев.
Вот и забрали ночью за день до перевыборов. Мне было 12 лет, уже кое-что понимала. Ясно было, что по «сигналу» приехали за отцом. А у нас сразу же отняли корову, огород – даже не дали выращенную картошку выкопать. Остались в зиму без главного продукта. Брат и я с мамой жили в селе, другой брат был в армии. А председатель Новиков, памятуя, видимо, что отец мог его место занять, откровенно издевался над матерью. День отработает на колхозном поле, а на ночь как жену врага он запирает ее в конторе. И бил, и оскорблял. Продолжалось это аж до 43-го года, пока не появилась в нашем доме Ольга Петровна Булавко, эвакуированная из Ленинграда. Она пожаловалась в район, его предупредили, но не убрали. С тех пор отстал от матери. Но забыть такого она не смогла до самой смерти. Да что она, если я до сих пор испытываю страх перед любым начальством, уже и умирать скоро, и время другое, а все страх не отпускает».
Надо сказать, что среди пожилых людей в нашем селе немало тех, кто говорит о страхе перед властью, даже просто перед соседями. Но есть и другие примеры, говорящие, что сохраняли люди и человечность. На территории нынешнего села Жерновка,относящегося и тогда и теперь к Елбанскому сельскому совету, находилась центральная усадьба 308-го совхоза. Был там директор, фамилию, к сожалению, установить не удалось. Так он в одну из голодных зим начала тридцатых роздал рабочим часть семенного зерна и весь соевый жмых, предназначенный для скота. Люди его толкли, мешали с картошкой и пекли лепешки. Кого-то он спас от смерти. Сам же директор был обвинен во вредительстве, в разбазаривании государственного добра. Он знал, что его ждет, однако не смог смотреть, как мрут с голода дети, и ничего не предпринимать.
И как же дико рядом с этим примером выглядит другой, рассказанный Б.В.Ходковым: «В детстве больше всего на свете я боялся объездчика. Когда, голодные, мы, ребятишки 5–7 лет, воровали колоски, он неожиданно появлялся на коне и бичом хлестал нас по голым ногам, рассекая кожу. Поймав, запирал в пустом амбаре на ночь. Однажды запер пятилетнего мальчишку и забыл про него, спохватился, когда дошло, что его мать ищет, через несколько суток. А того уже крысы обглодали. И ничего объездчику не было, замяли. А нам всем урок – не воруй государственное добро!» Вот такая жуткая история, рисующая образ монстра, взращенного режимом, я не могу его назвать человеком. А в его руках тоже была власть, которую он сполна применял и в отношении голодных ребятишек.
«Великий перелом» или великая ломка судеб? Чем стали 30-е годы для моей семьи
Иван Никифорович Сизиков (мой дед) родился в 1937 году в селе Бубенщиково Маслянинского района в семье Никифора Несторовича (родился 13 февраля 1913 года) и Татьяны Константиновны (в девичестве Безденежных, предки в 70-е годы переселились из Вятки). Прабабушка умерла в 1995 году. Прадед живет один, категорически отказываясь переселиться к сыну Ивану (моему деду). Род Сизиковых всегда отличался твердостью характеров: сказал, что доживет век в родной избе – так оно и будет. В свои 88 лет Никифор Несторович все делает по дому сам: топит печь, убирает, варит.
Интересна история любви его родителей – Нестора Григорьевича и Елизаветы Алексеевны (моих прапрадеда и прапрабабушки). Нестор был сыном купца, его отец (запомнили его как батьку Григория) имел много пчел и несколько лавок, торговал сукном, которое в обмен на мед брал в Барнауле. В семье его было 6 детей: пять сыновей и одна дочь. Когда сыну исполнялось 16 лет (меня, конечно, смутил столь ранний возраст, но прадед подтверждает: так и было) – отец Григорий отдавал ему одну лавку, женил, и тот вел свое хозяйство самостоятельно. Одно условие: невест для сыновей выбирал отец. А когда дошла очередь до Нестора, тот воспротивился ехать сватать «ровню», заявил, что любит соседскую Лизу, она нянчила у них его сестру. Отец Григорий попытался сына вразумить, да понял, что бесполезно, вручил ему в руки топор и продольную пилу и сказал: женитесь, живите, но помощи не ждите. Нестор и Лиза с этим «приданым» – пила да топор – ушли из дома, толком не зная, как и где будут жить. Шли по деревушкам вдоль Берди. От деревни до деревни по 40–60 км лесом. Нанимались на поденную работу, где лес «распустить» на доски, где дрова распилить-расколоть. Добрые люди подсказали, что неподалеку есть богатая «кержацкая» деревня – Бубенщиково, там держат много пчел и им всегда нужен тес. Так мои прапрабабушка и прапрадедушка оказались среди староверов, людей работящих, а потому не уважающих особенно-то бродяг, лодырей… Слава Богу, мои родственники им приглянулись, они задержались там до весны, в основном готовили тес. За это их кормили, выделили времянку-избушку. А затем предложили строиться, только и здесь ждало серьезное испытание, если бы его прапрадед не выдержал – его бы в деревне не оставили. Что же это за экзамен? Из заранее заготовленного леса в течение светового дня (летнего) сложить избу, а в течение ночи довести до полной готовности, чтобы с рассветом уже дым из трубы шел. Если дым не шел, кержаки «чужого» не принимали. Наши молодые экзамен выдержали. Позже, когда Лиза уже ждала ребенка, поближе, в соседние деревни Никоново и Изырак, перебрались ее братья. Нестор же и Лиза в течение трех лет в Бубенщиково сумели обзавестись вполне приличным хозяйством: коровой, лошадью, десятком пчелиных ульев. (Их пример показывает, что крестьянин многого мог достичь своим трудом, кержацкая школа пошла на пользу.) Те же кержаки, по рассказам прадеда, выделили им в тайге участок под пашню, видимо, решала община или как у нас говорят – общество. Так и жили в трудах, в заботах, пошли дети. Младший, Никифор Несторович, мой прадед, отца помнит из рассказов матери Лизы, которая сохранила его образ до конца жизни. Овдовела она рано – забрили Нестора в 1914 году в солдаты, ушел он из дома навсегда. А Лиза через несколько лет вышла замуж, в деревне без мужика детей не поднять, а вот любовь свою к купеческому сыну, давно почившему, забыть не могла: ради нее он отказался от отцовской опеки, за 13 лет хлебнул и горького, и сладкого, от нищего бродяги вырос до уважаемого хозяина… Потому и знаем мы их историю, что часто мать сынам об их отце рассказывала…
Суровый батька Григорий к тому времени овдовел, почувствовал необходимость помогать осиротевшим внукам, хотя сильно не баловал. Сам отстроил хороший дом из пихтача, надворные постройки, купил пчел: было у него более ста ульев. Мед сам возил в Барнаул на базар. Когда пришла новая власть, отобрали все до нитки, но самого почему-то не тронули, а назначили пасечником, тогда еще в коммуне (1929 год). Григорий по инерции продолжал ходить за пчелами с той же любовью, что и раньше, как за собственными. Может, и жил бы, как и жил, только больно дом его был хорош. В 1932 году, в самый пик коллективизации, приглянулся его дом председателю колхоза, и под предлогом, что нужно заселить в него учителей, Григория выбросили на улицу. А для большего порядка объявили его злостным кулаком и выслали в 62 года в Нарым. Он сумел оттуда вернуться (Сизиковы – крепкие) через 22 года. Век доживал в Никоново, откуда забрали. Люди его жалели, он жил то у одних, то у других. Говорят, ценили его за большие знахарские способности; лечил от всех болезней травами, заговорами, молитвами. Так и не имел своего угла, к детям жить не пошел, а вот дочь иногда навещал. Пешком ходил к ней за 60 км (она жила уже в селе Елбань) да по пути умудрялся рябчиков наловить. Так случилось и в его последний приход: пришел с гостинцами из тайги (рябчики), лег и тихо уснул навсегда – некогда купец, а в итоге нищий и бездомный бродяга. Шел ему 105-й год.
Теперь обращусь к судьбе семьи бабушки, Веры Антоновны Сизиковой (в девичестве Белоус). Предки ее не были сибиряками – в далекие девяностые годы ХIХ столетия прибыли они в Сибирь из Черниговской губернии. Никита Андреевич Малько (1870–1951) был пятым сыном в крестьянской семье. Земли было мало, а по установившимся семейным традициям каждый сын, обзаводясь своей семьей, получал свою долю. Пока Никита подрос, вся земля была поделена между тремя старшими братьями. Но Никита, в отличие от них, получил по тем временам неплохое образование – четыре класса церковно-приходской школы. Был очень любознательным, увлекался историей, религией. А еще у него был великолепный слух и голос, любил песни петь о Стеньке Разине, Ермаке. В его репертуаре запомнились моей бабушке песни «Шумел-гремел пожар московский», «Судьба изменчива всегда, то вознесет кого высоко, то бросит в бездну без стыда». Претендовать на землю он не стал, а пошел, подобно Максиму Пешкову, в люди. Шел с конкретной целью: поучиться жизни. По бабушкиным словам, он действительно многому научился: работал на заводах на Урале, пас отары овец в Казахстане, выращивал бахчу в Поволжье, научился плотницкому делу, мял кожи и шил тулупы, катал валенки, был хорошим жестянщиком. А еще очень любил природу, все свободное время проводил в лесу, охотился, собирал грибы, ягоды. Пройдя всю Россию, «якорь бросил» в Маслянинском районе. Сделал это по двум причинам – встретил Улиту Ефимовну, будущую жену, и сильно ему полюбилась наша таежная земля. Построил дом в Никоново и привел туда Улиту. Его трудолюбие и мастеровитость позволили обзавестись крепким хозяйством; знаю со слов прабабушки, что, имея четырех дочерей и рано овдовев (в 1922 году умерла Улита Ефимовна), – Никита Андреевич не только не бедствовал, а имел полтора десятка коров, четырех лошадей. Таисия хорошо помнила, что масло и на базар отец возил, и дома всегда кадка (около 2-х ведер) топленого была. Жениться снова Никита не захотел, и я с большим уважением отношусь к принципам верности, которых всегда придерживались мои предки. Взрослели дети, выходили замуж, получая от отца немалую помощь в виде приданного. Рожали и растили своих детей, с отцом оставался один сын – Василий. Тогда, в 1930-м, он почувствовал недоброе, работая в поле, – домой не вернулся (кто-то видно шепнул ему), лошадей отпустил, передал уздечку со знакомыми, чтоб отец понял, что он не арестован. Сам как был ушел в Кемерово, устроился на шахту, где потом и погиб.
Тася, младшая, училась в 1930 году в педучилище в г. Черепаново, когда грянула беда: раскулачивание. В одночасье проводили из училища, хотя направляли за хорошие успехи в Новосибирский учительский институт. Остались они с отцом на улице. Но, слава Богу, хоть не сослали его в Нарым в 68 лет. Отец смастерил землянку, так и жили, колхозному начальству его помощь всегда была нужна – знали, что руки золотые, может, потому и не тронули. А вот Полину, старшую дочь, вместе с мужем и детьми малыми отправили в Нарым. Рассказывает прабабушка:
«Страшнее и больнее всего мне вспоминать о Полине. Ее вместе с мужем и тремя детьми (3-х, 5 и 7 лет) выслали в Нарым. Сумела она как-то передать две весточки. Писала в первом, как в страшную метель, ледяной холод шел обоз по заснеженной тайге. В санях ехали сопровождающие милиционеры и дети с 3-х до 7 лет. Младших несли родители на руках, следуя пешком за обозом. Коченели, немели озябшие руки, и не было сил удержать дитя. Если ребенок выпадал, матери не давали его поднять – оставался холмиком заснеженным на дороге. А на безумные крики матери был ответ конвоиров: «Не ори, все равно сдохнет». Если кто-то совсем обессиливал – пристреливали. Потому и шли за обозом волки, ожидая очередную жертву и напоминая воем о себе измученным, едва живым людям. Вокруг не было никакого жилья, отдыхали прямо на снегу. Детям давали по кусочку хлеба, взрослым – жмыха. Половина взрослых умерла по пути, а дети – почти все погибли. Остались и Маша и Гаврик лежать на дороге, даже земле не придала, бедных. Верочку довезла до места. Поселились в шалашах, палатках: холодно, голодно. Дождались лета – оно темное здесь, сырое, месяцами солнце не видели. Комары, мошки высасывали всю кровушку. Оставшиеся дети летом умерли один за другим, ушла и старшенькая, Верочка. Умирала – просила молочка, но был только хлеб – кусочек, в нем опилок больше, чем муки, не угрызть ослабшему ребенку.
Писала сестра о работе: раскорчевывала пни, лопатами копали вязкую болотистую землю, строили дорогу. Не прожила сестричка и года, осталась навечно в ледяной северной земле вместе с детками».
Рассказывая все это, прабабушка не может удержать слезы. Я плачу вместе с ней, и мне страшно от мысли, что это было не в кино, не в книге – это было в ее судьбе, с родной сестрой, племянниками. За что? В чем провинились перед людьми трехлетняя Маша, пятилетний Гаврик, семилетняя Вера? Каким образом это могло помочь советской державе? А все потому, что для власти народ, а тем более отдельная жизнь человека – ничто по сравнению с грандиозностью планов вселенского коммунистического счастья. И это пугает – даже по прошествии шестидесяти лет!
Воссоздавая картину жизни сибирской деревни тех страшных лет, я на примере своего села увидела масштабы сталинской опричнины: среди односельчан нет ни одной семьи, которую бы обошла карающая рука власти: у каждого кто-то из родственников пострадал. Не обошла стороной беда и мою прабабушку, 1913 года рождения. Вот что она рассказывает:
«Все жили, боясь друг друга – начальников из района, председателя колхоза, просто соседа. Не знал никто сам про себя, виноват или нет, заберут сегодня или завтра. По доносам людей забирали по ночам, долго не разговаривали, хватало одной команды: «Одевайся!» Приходили и к нам за моим мужем. Но его не оказалось дома, он работал в обозе: хлеб возил из колхоза в заготпункт. Когда узнал о гостях ночных, больше дома вообще не жил, ночевал то в поле, то на заезжих дворах. Как-то забыли про него, Бог помог, не забрали. Деревенька наша Полтавка была маленькая – дворов 30, это между Никоново и Березово. Выросла она из хуторка на высоком песчаном берегу Верди. Очень красиво там было. Так из нашей деревушки забрали перед войной почти всех молодых мужиков, на фронт ушло меньше. А вернулся из Норильского ГУЛАГа только один».
Еще год назад, когда была при смерти прабабушка Таисия Никитична, нашей семье вновь пришлось столкнуться с бездушием власти, а вернее, конкретных чиновников: почти год «выбивали» компенсацию для прабабушки как пострадавшей от раскулачивания – 10 тысяч рублей за 5 коров, сеялку, лошадей, дом. Бабушка успела их все же получить буквально за считанные дни до смерти. Получить, чтобы отдать правнукам со словами: «Учитесь, живите лучше нас!»
Большая часть моих односельчан – потомки переселенцев из малоземельных районов России – пришли сюда с мечтой «жить крепко», люди они трудолюбивые и сумели передать это качество своим детям. Может, именно это позволило не сгинуть им в то лихое десятилетие, не спасовать перед голодом. Я низко кланяюсь вам, мои земляки, люди трагических судеб. У вас не так уж много времени, чтобы оценить до конца, что значит для нашего будущего пережитое вами. Наш долг – не допустить, чтобы вашим внукам, правнукам выпала такая же горькая доля.
[1] Исупов В.А., Кузнецов И.С. История Сибири. Новосибирск, 1999. С. 165.
[2] «Социалистическое Льноводство». 1937. 15 января.
[3] «Социалистическое льноводство». 1937. 18 января.
[4] «Социалистическое льноводство». 1937. 16 февраля.
[5] «Социалистическое льноводство». 1937. 21 марта.
[6] «Социалистическое льноводство». 1937. 21 августа.
[7] Все с радостью подписались на заем // «Социалистическое льноводство». 1938. 9 июля.
[8] Письмо и.о. секретаря Новосибирского обкома ВКП(б) Алексеева к Сталину об обстановке в Новосибирской области // Наша малая родина: Хрестоматия по истории Новосибирской области 1921–1991 гг. Новосибирск, 1997. С. 161.
[9] Странное поведение следственных органов // «Социалистическое льноводство». 1937. 17 июля.
[10] «Социалистическое льноводство». 1938. 22 апреля.
[11] Из рукописи жительницы с. Елбань Маслянинского района Новосибирской области М.И.Советовой, 1923 г.р.
[12] Из беседы с А.В.Гладышевой, 1934 г.р. Записано Екатериной Коневой 10 сентября 2001 г.
[13]«Социалистическое льноводство». 1938. 1 января.
[14] Тесная связь с массами // «Социалистическое льноводство». 1937. 9 мая. [15] Приказ № 19 от 25 мая 1938 г. по Елбанской школе. Книга приказов (хранится в архиве школы)