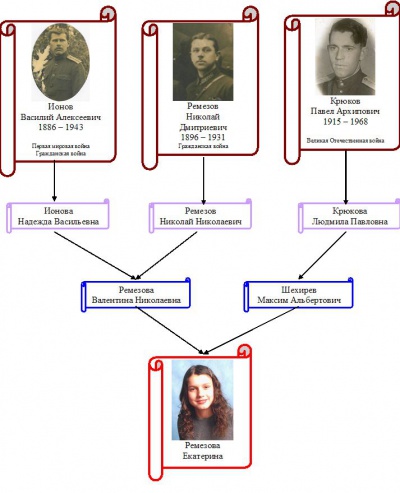Мария Шамшурина «Удмурты и русские – свои и чужие. Политика раскулачивания в свете межэтнических отношений»
Чужого горя не бывает
Удмуртская Республика, г. Ижевск,
гуманитарно-педагогический лицей № 14, 11-й класс
Научный руководитель: В.И.Сурчакова
Третья премия
Я живу в республике Удмуртия. Здесь издавна жили рядом люди многих национальностей: удмурты, русские, татары, марийцы, чуваши, бесермяне и другие. Коренное население – удмурты, а остальные пришли и расселились позже. Пришельцы были другими – «чужими». Они выглядели по-иному, говорили непонятно, молились совсем иным богам – в общем, всё делали по-иному. Как уживались «свои» между собой и с «чужими» на протяжении многих лет, как ладили друг с другом или решали возникающие конфликты?
XX век стал самым драматичным в истории России. Начало века с его Первой мировой войной, Октябрьской революцией, воцарением коммунистов и репрессиями 30-х годов внесло резкие изменения во взаимоотношения людей. Что привнесли эти события в межэтнические отношения, как изменили их? Ведь с усилением напряженности в стране усиливается напряженность и между людьми. В кризисных ситуациях проявляются черты характеров, в обычной жизни не всегда заметные.
По данным переписи 1989 года в Удмуртской республике проживало свыше 70 народов, в том числе: русских – 58,9%, удмуртов – 30,9%, татар – 6,9%[1].
Для исследования я выбрала один из тяжелых периодов в жизни России – 30-е годы: «раскулачивание» и связанные с этим репрессии. Я поставила своей задачей проследить и попытаться понять взаимоотношения русских и удмуртов на территории Удмуртской республики в тот период.
Взаимоотношения русского и удмуртского народов имеют многовековую историю.
Первые достоверные упоминания об удмуртах встречаются в ХII веке, в арабских летописях. Позже – в русских (ХIII в.) и европейских (XVI в.), но они отрывочны и кратки. «Удмурты издревле жили в междуречье Камы и Вятки… Территория, ограниченная этими реками, имеет довольно большую протяженность с севера на юг, поэтому население северного и южного районов несколько отличаются. Это дает основание разделить удмуртов на «южных» и «северных». В древности северная группа удмуртов расселялась несколько западнее и юго-западнее современного места расселения, то есть в бывших Орловском и Вятском уездах (современная Кировская область). Южная группа проживала в районе города Арска, расположенного на берегу реки Казанки. Местность, населенная удмуртами, лежит в лесной полосе Западного Приуралья с характерной для предгорий всхолмленной равниной»[2].
Представьте: холмы, покрытые густыми, часто непроходимыми, еловыми лесами, в низинах – болота. Частая сеть небольших речек дополняет пейзаж. У истоков этих речушек, в лесных чащах и глубоких оврагах прятались удмуртские деревни – гурты (от удмуртского – гурт – деревня). Небольшие постройки из тонких бревен (летний) и крепкие, без окон (зимние), с дощатым полом и открытым очагом, разбросанные без всякого порядка, – вот что представляли собой эти деревни. Часто в гурте жил только один род.
Удмуртские рода жили замкнуто и потаенно, но именно эта замкнутость, необщительность и нежелание вмешиваться в чьи-либо дела позволяли им уживаться с татарами (на юге), башкирами (на юго-востоке) и с пермяками (на востоке).
А в 1174 году на территорию Вятского края (это название бытовало до середины XX века) прибыли водным путем по рекам Волге, Каме и Вятке из Новгорода дюжие молодцы. Обнаружив на берегу Вятки городище удмуртов, они разорили и сожгли его. Так состоялось первое знакомство удмуртского и русского народов – «чужие» показали себя не с лучшей стороны.
Но коренной народ не держал зла на пришельцев, и в 1181 году на месте сожженного удмуртского городища зашумел русский городок Никулицын.
Удмурты, конечно, предпочли обезопасить себя от нового разорения, и ушли в глубь лесов, опасаясь приближаться к чужому поселению. Потом, мало-помалу, связи стали налаживаться: удмурты были искусными рыбаками, звероловами, а также бортниками (собирателями меда), русские же могли предложить в обмен хорошее оружие.
В 1489 году северные удмурты и вовсе присоединились к Московскому княжеству.
Но все же русские не оказывали сильного влияния на удмуртский народ в целом: удмурты оставались все такими же нелюдимыми, а русские тоже жили обособленно. Их было мало, да и не хотели они менять что-либо в укладе жизни жителей болот и лесов. Пока 10 октября 1558 года не произошло официальное вхождение Вятского края в состав Московского княжества. В связи с этим событием население края стало увеличиваться за счет устюжан и двинян (жителей русского Поморья), которым Иван IV дал право переселяться в новые, необжитые районы. В этот период русские и удмурты находятся в непосредственном соседстве. Их взаимоотношения носили неоднозначный характер.
Верность новых подданных решили укрепить обращением из язычества и истинную веру – православие. В Вятский край хлынуло множество христианских миссионеров. Часто их встречали весьма враждебно. Поджигали дома, где они находились, кидали в них палками и камнями или просто уходили всем селением в глухие леса.
В конце XVII века происходит значительное изменение в отношениях двух народов: появляются совместные поселения. В 1678 году таких селений насчитывалось 28, а в начале XVIII века (1717 г.) уже 60. Объяснялось это тем, что часть русских, не в силах платить подати, поселялась на землях удмуртов и жила, платя за пребывание на селе, арендуя землю у удмуртов (им были установлены подати меньше). Таким образом, часть удмуртского народа (жители этих поселков) подверглась влиянию русских. Другая – куда более значительная – предпочла в близкие контакты с пришельцами не вступать и ушла в районы левобережья среднего и верхнего течения реки Чепцы.
В 1760 году на реке Иж было окончено строительство «железоделательного завода». Для работы на нем, а ранее – для строительства завода на реке Вотке, конечно же, приглашены русские мастера. У реки Иж был основан «рабочий городок», который в 1918 году обретет название «Ижевск» и станет в будущем столицей Удмуртской Автономной области. А пока мастеровой люд расселялся в близлежащих удмуртских деревнях. Спокойная жизнь коренного населения со строительством заводов закончилась. Валить и возить лес, вбивать сваи мастеровые не будут, поэтому для выполнения таких работ со всего края силой сгоняли местных жителей. Что, кроме ненависти, могло это породить?
XIX век – время интенсивного переселенческого движения. В 30–70 годы множество русских крестьян в поисках лучшей жизни приезжают в Вятский край.
«Переселенцы расселяются обычно небольшими группами, главным образом в северо-западной и юго-восточной части. Удмурты перенимают у русских трехпольную систему земледелия, планировку поселений, бревенчатые избы (до этого бытовали летние жилища из тонких бревен и зимняя изба без окон), а также покрой мужской одежды. Русские учились у удмуртов приемам охоты и искусству собирания меда. В результате же переселенческого движения довольно заметно изменяется национальный состав населения. Только в Глазовском уезде, по данным 1873 года, до 10,5% селений являлись удмуртско-русскими»[3]. Именно в это время получают большое распространение межнациональные конфликты; территория Вятского края обширна, но почти полностью покрыта лесами, обработанная же земля всегда ценилась дороже. Вот из-за нее и разгорались споры между удмуртами и русскими переселенцами.
Этими же причинами, по мнению некоторых историков, был вызван всколыхнувший в 1892 году Вятский край процесс по «Мултанскому делу».
5 мая 1892 года на лесной тропинке между деревнями Анык и Чулья был найден труп нищего. В его убийстве обвинили проживающих там удмуртов, утверждая, что нищий был принесен в жертву кровавым удмуртским богам. Вскоре весть о деле разнеслась по всей России. На защиту удмуртов встали писатели В.Г.Короленко, Л.Н.Толстой, были привлечены известные адвокаты того времени: А.Ф.Кони, М.И.Дрякин, Н.П.Карабчевский.
XX век с его потрясениями – Первой мировой войной и Октябрьской революцией – внес существенные изменения во взаимоотношения народов но всей стране. Не избежал этого и Вятский край.
«С первых лет советской власти межэтническая деятельность людей претерпела серьезные изменения: ее формы, виды постоянно усложнялись. В новых условиях изменилась общественная жизнь. В ноябре 1920 года декретом ВЦИК и СНК РСФСР была образована и Удмуртская автономная область»[4].
Одним из первых актов советской власти в деревне было изменение земельных отношений, а первой формой аграрной политики – продразверстка.
«В связи с неодинаковыми возможностями адаптации к новой экономической системе, они по-разному восприняли введение социальных и экономических новшеств. Гибкий и динамичный, привыкший к перемещениям и смене правителей русский этнос «завоевания Октября» воспринял быстрее. Поэтому первые годы советской власти характеризуются перерастанием классовых конфликтов в национальные, усилением уже существующих»[5].
В силу исторических причин удмуртские крестьяне как коренное население края были лучше обеспечены землей. По данным 1909–1911 годов среди них на душу населения приходилось в среднем по 2,31 гектара (учитывались как пашня, так и сенокос), среди русских – 1,83 гектара.
В связи с проведенным в 1918 году уравнительным перераспределением земли по едокам, часть удмуртских земель перешла к русским. Естественно, это породило волну возмущений в деревне: удмурты были недовольны уменьшением наделов, русские, в свою очередь, – этим их недовольством.
Неравномерно распределялись и всевозможные государственные повинности, большая часть которых ложилась на удмуртское население. Так, осенью 1918 года собрано около 0,5 млн пудов хлеба, что составляло 1/4 часть заготовленного по стране, значительная его часть собрана среди удмуртов. То же происходило и с распределением обязательств продразверстки по хозяйствам. Контроль над ее исполнением производили не Советы, а сельские общества, где часто злоупотребляли властью русские чиновники.
Национальная неприязнь усилилась с изданием 11 июня 1918 года указа о создании комитетов бедноты (комбедов), которые должны были следить за исполнением продразверстки и выявлять укрывающих зерно крестьян. В местах совместного проживания русских и удмуртов создавали национальные комбеды.
Русские объединялись против удмуртской части населения, удмурты тоже объединялись – с целью сохранения имущества.
В 1918 году вся Удмуртия была охвачена крестьянскими мятежами на почве межэтнических конфликтов. Так, например, в октябре 1918 года Елабужская уездная конференция (впоследствии охарактеризованная как «съезд кулачества») приняла постановление при переделах земли выселять русских, а их земли делить между собой. Сразу после конференции в Алнашской области (сейчас – Алнашский район) началось насильственное выселение русских. Организация была уничтожена, все ее члены арестованы. Принятое постановление распространения не получило, зато началось массовое вытеснение удмуртов.
Статистика свидетельствует: с 1916 по 1926 год количество селений в местностях с удмуртским населением увеличилось на 25,7%, а в местах с русским – на 0,5%. Доля селений с удмуртским населением увеличилась с 24,5% до 34,7%, со смешанным – уменьшилась с 26% до 22,8%. Причины отселения удмуртов ярко иллюстрирует прошение удмуртов деревни Бургурт. «Мы, 15 домохозяев, являемся вотяками (т.е. удмуртами) по национальности деревни Бургурт среди русского населения. Дворов всего 90. Желаем отделиться от русского населения в особый поселок в край земельных владений селения. Причины: 1) На сходе вопросы решаются горлопанами, мы же забиты, на нас нуль внимания. 2) Поля раcтянуты. 3) Невозможно удобрять поля за болотами. 4) Невозможно ужиться с русским большинством, которое зачастую вотское меньшинство заставляет выполнять за них общественные повинности. 5) Среди русских много лентяев и лодырей, охочих прокатиться на нашей трудовой спине, что видно из разверстки хлеба. 6) Наши дворы находятся в груде и носят название: «Вотский конец» на очень низком и болотистом месте»[6].
Социально-экономическая перестройка конца 20-х – начала 30-х годов внесла существенные изменения во взаимоотношения двух народов.
В связи с коллективизацией отпадал один из самых острых вопросов – вопрос о земле. Земля переходила в собственность государства, и крестьяне были практически лишены возможности ею распоряжаться. Теперь межэтнические распри, казалось бы, должны были прекратиться или хотя бы утихнуть. Но нет… Все вышло совсем наоборот.
Я хочу рассказать о семьях, ставших жертвами как политических репрессий, так и межэтнических конфликтов.
Странники поневоле
Одна из раскулаченных семей – семья моего прадеда. В то время это: сам прадед Федор Павлович Титов, его жена, моя прабабушка Татьяна Васильевна Титова, и их дети: Дмитрий, Гавриил, Анастасия и Серафима (1922 года рождения) – моя будущая бабушка.
Свой рассказ я поведу, основываясь на ее воспоминаниях, как устных, так записанных ею самой в 1986 году.
Прадед мой в 1930 году был выселен из дома вместе со всей семьей. Работал он мельником. Имел в своем распоряжении долю, то есть был одним из совладельцев. Большинство мельников не имело своих собственных домов, а жили в «помолках» – специальных домах при мельницах. Там ютились их семьи, там же пережидали время приехавшие молоть зерно. Дома зачастую были небольшими, имели неприглядный вид. Не было и хозяйственных построек, потому что хозяева мельниц запрещали держать животных. Но у прадеда был свой земельный надел, где он выращивал рожь.
И вот прадед решает стать единоличным собственником. Для этого он продает свою долю мельницы, весь урожай с участка и, путем жестких ограничений во всем для себя и семьи, скапливает некоторую сумму. Он покупает в деревне Кибек-Пельга усадьбу с новым домом, но без хозяйственных построек.
Надо сказать, что деревня находилась в 112 километрах от Ижевска, в Бемыжском районе. Она представляла собой две улицы, соединяющиеся почти под прямым углом. Селение стояло на взгорке, внизу протекала река Бемыжка.
К 1929 году здесь насчитывалось 75 дворов, из них 15 принадлежало русским, остальные – удмуртам. Русские соседствовали с удмуртами, но все же старались селиться компактно – в средней части, у перекрестья улиц. Вот и прадед, русский по национальности, выбрал себе дом тут.
Федор Павлович обустраивает хозяйство и в 1929 году перевозит семью в Кибек-Пельгу, покупает домашних животных. А затем покупает еще и полуразрушенную мельницу в деревне Верхний Бемыж, что в двух километрах от Кибек-Пельги. Отстраивает ее. При этом работает вместе с нанятыми работниками, осваивая плотницкое мастерство. Это пригодится ему в будущем.
Дом был велик, да и подворье не малое. Внутреннее убранство дома мало чем отличалось от домов других жителей деревни. Большая русская печь. Кухня, отгороженная дощатой переборкой. В красном углу – большой самодельный стол, возле – широкие длинные лавки; стул, на котором сидел глава семьи; деревянная кровать, на которой спали родители. Дети спали на полу, зимой же – на полатях.
Дома даже самых бедных людей были обустроены точно так же. Единственный «предмет роскоши» – швейная машина «Зингер» да старинные часы в пол, купленные неизвестно на какой ярмарке. Были они огромные, с маятником, тикали на всю избу. Заводились ключом.
Едва обустроились на новом месте, пришла беда…
Стоял февраль. На дворе трещали морозы, в окна стучались метели. Поздним вечером прибежала родственница, жившая в соседней деревне. В глазах испуг. Сказала, что у них зажиточных людей выгоняют из домов. Так узнали о странном и страшном слове «раскулачивание».
Моя бабушка вспоминает:
«Родители как-то сразу забеспокоились. Мама быстро собрала перины, подушки, кое-что из одежды, швейную машинку. Сложили все в сани, увезли к родственникам. А утром мама не отпустила нас гулять на улицу, посадила на лавку, сказала: «Сидите, молчите!»
Мы, дети, ничего не понимали. Но родительское слово – закон. Ближе к полудню пришли активисты во главе с Семеном Титовым (двоюродным братом прадеда). Не раздеваясь, прямо с порога объявили «решение исполкома изъять мельницу в пользу общества, вывести из дома. Дом со всем имуществом (скот, хлеб, мясо и т.д.) оставить. С собой только то, что сможете надеть на себя, чугунок, да по чашке с ложкой на каждого.
А много ли наденешь? Два — три платья, штаны, платки, шали, шубу, валенки – натянули, что смогли. Запрягли последний раз лошадь и отвезли всех в дом дяди Вани».
Дядя Ваня – Иван Павлович Титов – брат прадеда. Жил он в той же деревне, на другой улице. Жил в маленьком доме. Ничего, кроме дома и небольшого участка земли, в собственности не имел, поэтому раскулачиванию не подлежал.
Стали жить у Титова Ивана. На следующий день сюда же приехал другой брат прадеда – Константин Павлович Титов. Его тоже «раскулачили» как арендатора мельницы.
В маленьком домике собралось 18 человек (7 человек – семья Ивана, 6 – семья прадеда, 5 человек – семья Константина).
Бабушка рассказывает:
«Осознавать, что с нами произошло что-то серьезное, я начала лишь, когда пришли двое из активистов и отобрали… подушки. Бросили небрежно: «Ваши дети и так, на голых досках, поспят!» Мама, спокойно перенесшая изгнание из дома, здесь разрыдалась.
Я стала присматриваться к родителям. Помню, когда ни проснусь, они все разговаривают».
О чем они могли говорить? Конечно же, о том, что случилось и кто в этом виноват. По архивным данным, в деревне было раскулачено 11 хозяйств. Большую часть из них составляли русские и удмурты, имевшие дома по соседству с русскими. В «кулацкие» дома были вселены бедные удмурты.
Удивительно то, что до этого времени в селении не чувствовалось вражды между представителями разных народов.
Особенно часто в разговорах прадеда с прабабкой упоминалось имя двоюродного брата прадеда – Семена Титова. Нередко вину за свое бедственное положение они возлагали на него. Очень странным человеком был Семен Титов. В 1925 году он женился на дочери одного из местных «богатеев». Когда она неожиданно умерла, отец предложил Семену остаться а «деле». Но когда стали создавать комиссии по выявлению «кулаков», он, быстро сориентировавшись, объявил себя батраком и был назначен главой комиссии.
Первой его жертвой стал отец жены со всеми родственниками. Свой был страшнее для своих, чем чужие. А может быть, затем и раскулачил, и выслал в Сибирь, чтоб не рассказали о его прошлом.
«В 1929–1930 годах только в сельской местности РСФСР было зарегистрировано около 30 тысяч поджогов. Это значит, что ежедневно в деревнях республики полыхало около сотни пожаров»[7].
В апреле 1930 года пожар полыхнул и в Кибек-Пельге. Бывший сосед прадеда, удмурт по прозвищу Миток (фамилию и имя за давностью лет установить не удалось), тоже «кулак», поджег свое бывшее хозяйство.
Понять его чувства можно: то, во что вложено много сил, времени и труда, легче уничтожить, чем видеть в руках чужих.
Огонь тем временем грозил перекинуться на соседние постройки – дом прадеда. Прадед вместе со всеми бросился тушить пожар, несмотря на то, что дом принадлежал уже не ему: для него куда важнее было сохранить творение своих рук. Пожар загасили, а несостоявшегося поджигателя арестовали.
Другой родственник – Иван Титов – считался «бедняком», но в колхоз идти отказался наотрез. Когда же стали заставлять вступать насильственно, его жена – Авдотья Титова – решила «принять меры». Она собрала группу женщин, согласных с ней, и отправилась в исполком, располагавшийся в Бемыже, с протестом: «Не хотим в колхоз!»
И русские, и удмуртские женщины были удивительно солидарны в нежелании вступать в колхоз. Но моя прабабка в этом не участвовала. Наоборот, она уговаривала Авдотью в колхоз вступать, опасаясь: «Как бы и вас не раскулачили». Неизвестно, что сказали «разгневанным женщинам» в Бемыжском исполкоме, да и сказали ли вообще. У бабушки по этому поводу нет никаких сведений.
На следующий день, утром, пришли и арестовали прадеда, прабабку, Константина Титова и его жену – Надежду. Прабабушку позже выпустили, а трое остальных так и остались в участке. Через неделю, буквально засыпанные просьбами об отмене ареста, «тюремщики» выпустили и Надежду Титову.
Арестовали прадеда «за антиколхозную агитацию» и отправили вместе с братом Константином на «перевоспитание». Сначала в город Ижевск, а затем на станцию Сентег. Здесь они вместе с другими заключенными валили лес и на лошадях возили его на строительство школы в деревню Лудорвай.
Прадеда арестовали, и после этого потянулись долгие годы странствий из деревни в деревню, с мельницы на мельницу – частые переезды, чужие дома. Нигде подолгу не задерживаясь, исколесили всю юго-западную часть Удмуртии.
На принудительных работах Федор Титов оставался недолго – сбежал. Было это так. Длинный «караван» – телеги, груженные бревнами, медленно двигался по дороге через лес. Конвойных было мало. Прадед, управлявший лошадью, попросил соседа последить за ней, сам же пошел в лес («Живот прихватило»). Уходил он все дальше и дальше. Погони не было. Ни преследовать, ни искать его не стали. По-видимому, посчитали, что идти некуда, кроме своей деревни, и решили подождать его там.
Пока прадед трудился «на пользу общества», его семейству приходилось туго. В начале лета дети тяжело переболели скарлатиной, затем кончились продукты. Пришлось идти жать по найму. Жили впроголодь.
Тем временем прадед добрался (разумеется, пешком) до села Бемыж, где ему удалось совсем необычным образом получить документ, удостоверяющий его принадлежность к середнякам. (Кулаков, как уже говорилось, не брали на работу, детей кулаков не брали в школу, а необходимо было зарабатывать на жизнь, кормить семью, давать детям образование.) В Бемыжском сельском совете работала уборщицей двоюродная сестра прабабки, вернее, жена двоюродного брата, удмуртка по национальности (имя установить не удалось). Она знала о горе сестры и сопереживала ему. Однажды председатель исполкома вышел из кабинета, забыв запереть в стол печать. Она, воспользовавшись моментом, схватила первый попавшийся лист бумаги (оказалась – курительная бумага) и поставила на ней печать. Позже передала прабабке Татьяне. Дома написали, что Титов Федор Павлович является середняком.
Эта женщина взяла на себя огромный риск, ведь если бы об этом кто узнал, жизнь ее семьи стала бы еще хуже, чем жизнь семьи прадеда. Так кто здесь «свой», кто «чужой»?
С этой справкой прадед поступил на работу мельником на мельницу в деревне Собакино (сейчас находится в Кировской области).
«Я, Тася и мама прожили одни до осени (братьев еще летом забрал к себе отец)», – рассказывает бабушка. – «Осенью, в конце октября, приехал один из друзей семьи, удмурт. В колхоз он еще не вступил, поэтому лошадь была своя и он мог ею свободно распоряжаться. Сложили на телегу нехитрые пожитки и тронулись в неблизкий путь. Выезжали поздней ночью, боялись, что остановят или начнут преследовать, пытаясь выследить».
И вновь ради благополучия семьи прадеда рисковал своим благополучием и, может быть, свободой «чужой» – удмурт. Он мог быть арестован как сообщник кулака, лишен имущества, сослан, но долг дружбы был для него куда важнее опасений за собственное благосостояние.
В деревне Собакино мельница стояла на довольно большой реке, но была почти разрушена. Здесь и пригодилось прадеду освоенное ранее плотницкое мастерство. Он в одиночку восстановил мельницу, усовершенствовал так, что стали к нему ездить молоть зерно за 20 километров, даже из тех деревень, где была мельница. Везли зерно и русские, и удмурты, и татары, и бесермяне. У мастера редко спрашивали, каким богам он молится и какой он национальности.
Постепенно материальное положение улучшалось: смогли купить корову. Молока она давала мало, была худа, но потом, с хорошего корма, поправилась – в доме появилось молоко. К концу апреля 1931 года прадед остался без работы. Мельничную плотину прорвало, ремонтировать ее отказались, мельника уволили.
Свободное место нашлось тремя километрами выше по реке, где была образована Коммуна.
Бабушка рассказывает:
«Все удивлялись: не деревня, не колхоз, а скот общий. По хозяйствам – куры, утки. Как в колхозе, и единоличников нет. Русские, татары, удмурты – все едят в общей столовой, моются в общей бане – это уж совсем дело невиданное».
Так, удивляясь, часто не желая верить собственным глазам, воспринимали обычные люди объединение представителей разных наций, увлеченных одной идеей. «Нас, детей, пускали в общественную столовую. В большой избе стояла печь и огромный котел, где варили кашу на всех коммунаров. Особенно мы любили пшенную кашу на молоке. После каши на воде, которой кормили дома, – неслыханное лакомство. Если же еще дадут и масла, то и совсем праздник».
Но и в Коммуне прожили недолго. Руководство назначило мельником своего – коммунара. Прадед долго ходил по деревням, спрашивал: «Не нужен ли кому мельник?» В сентябре переехали на новое место – в деревню Котья, за 30 километров от Коммуны. А дальше, под новый год, разыгралась почти детективная история с арестом и побегом, где прабабке пришлось выступить в качестве главной героини.
Ее мама оставалась в Кибек-Пельге. Татьяна (прабабушка) скучала по ней. И вот, в декабре, решила навестить ее и других родственников.
Дошла пешком до Чабьи (соседней с Кибек-Пельгой деревни). У сестры Пелагеи дождалась ночи, пошли к матери. Была уже глубокая ночь, но их заметили. Откуда-то сбоку раздалась удмуртская речь: «Кин со?» – спрашивали: «Кто это?»
Прабабушка и Пелагея надвинули платки пониже и ушли в глухую тень. Но спрашивающий, по-видимому, пошел за ними, потому что едва они зашли в дом, не успели даже присесть, как стучат в двери. Открыли. Вошли двое, у одного – винтовка. Стали спрашивать: «Где живешь, где муж?» Она отвечала, что про мужа ничего не знает, сама живет, где придется.
Увезли прабабку в село Бемыж. Сдали в милицию. Ночью она не спала, все думала, что с ней будет. А утром дежурный, узнав, что здесь в, Бемыже, живет ее тетка, обещал отвести к ней, чтоб покормили. Сам же пошел завтракать, забыв закрыть на замок дверь. Проследив, в какую сторону он пойдет, Татьяна бросилась бежать в противоположную сторону. На дороге (вот судьба!) ее случайно встретил брат Павел, которого мать послала отвезти дочери хлеба, ведь в милиции тогда не кормили задержанных. Павел спрятал ее у своего друга, из удмуртов. Ночью он тайно отвез беглянку в Котью.
Согласитесь, странно – один «чужой» выдает милиции, обрекая семью едва ли не на погибель (во второй раз потерю кормильца семья бы не перенесла). Другой «чужой» – наоборот, спасает. Так, может быть, и не имеет значения, к какой национальности принадлежит человек?
Остаток зимы, а так же весна и лето 1932 года прошли спокойно. Осенью же прадеда вновь уволили. И снова пошел он бродить из деревни в деревню. Нашел работу в 40 километрах от Котьи – в Нылге.
«Осенью 1932 года по стране был принят явно завышенный план хлебозаготовок. Вo многих районах требовалось сдать государству больше зерна, чем его собиралось. На места были направлены чрезвычайные комиссии с заданием: «Любой ценой выполнить план». С осени 1932 г. начался голод»[8].
«Помню, осенью, после сбора урожая, запрягли лошадей, сложили на телеги мешки с зерном. Поставили красные флаги и с песнями покатили к ближайшей станции», – рассказывает бабушка.
К весне хлеба стало не хватать, многие голодали.
«Дядя Ваня с дочерью приехали к нам в Нылгу, попросили помощи: хлеба ли, крупы ли. Говорили, что Семен своих совсем не жалеет, весь хлеб забрал. (Семен Титов к тому времени «дорос» до председателя сельсовета.) Дали им и муки, и крупы. Те обещали вернуть, но мама сказала: «Не надо. Это вам за то, что нас приютили». Сами мы жили неплохо, по сравнению с другими – просто хорошо. Было молоко, а главное, хлеб», – рассказывает бабушка.
Почему, в отличие от остальных, у нас был хлеб? Потому что Федор Титов не состоял в колхозе, работал по договору, а значит, получал не за трудодни, а согласно договору. Оговоренную в нем долю зерна выплачивали исправно, на что часто роптали местные жители. «Своих в голоде держишь, а чужой, вон, пузо ростит», – выговаривали они председателю колхоза.
Прадед был человек приезжий, да к тому же другой национальности, а Нылга – деревня в основном удмуртская. В полном смысле слова – «чужой». Да еще и живет в «достатке». Но председатель нылгинского колхоза, человек умный, быстро пресек эти разговоры. Он понимал, как трудно теперь найти мастера – и мельника, и плотника, и механика в одном лице. Когда же прадед соорудил возле мельницы лесопилку, тот и вовсе стал уговаривать его вступить в колхоз. «Погодим…» – только и ответил прадед. И правильно медлил.
Вдруг, не ждано не гадано, пришло письмо из деревни Кибек-Пельга. Жена брата сообщила, что Семен Титов едет на партийную работу в Нылгу. И снова – Семен Титов. Неужели он решил преследовать своих родственников, пока окончательно не погубит их?
Родители бабушки срочно продают имущество, которое могло задержать их в пути. И вновь скитания. Наконец, в 1935 году, удалось получить место на мельнице в деревне Верхняя Лудзя, что в 25 километрах к юго-западу от города Ижевска. Дом здесь стал для семьи прадеда ДОМОМ на многие годы.
По данным архивных документов, в 1930–1935 году в Бемыжском районе Удмуртской автономной республики насчитывалось 8936 хозяйств. Подверглось раскулачиванию – 510[9]. И это только в одном районе. А сколько по всей Удмуртии? Несколько тысяч.
Бедколуд – от слова «беда»
Переместимся к северу. В Игринский район. Тогда он назывался Зуринский и имел несколько меньшую площадь. Русские и удмурты давно жили здесь вместе. В 1933 году здесь насчитывалось 30 русских и 135 удмуртских селений.
Бывшая жительница деревни Бедколуд Зуринского (Игринского) района любезно согласилась рассказать мне все, что она помнит об этом времени. Ей тогда было всего 6 лет, поэтому многое в ее памяти не сохранилось.
Лукерья Гавриловна Поторочина, удмуртка, родилась 11 сентября 1924 года в деревне Бедколуд. Здесь жили ее дед, ее отец. За долгие годы они смогли укрепить и поставить на ноги свое хозяйство. Были пчелы, много домашнего скота, много пахотной земли, с которой получали хороший урожай зерна. Дом был большой, пятистенный. Всем на загляденье. Лукерья Гавриловна вспоминает:
«Деревня домов так сорок. Улица длинная, широкая. Через нее, поперек, овраг… Да, в сторону от главной – маленькие улочки. Мы, удмурты, тут жили. Бесермяне – тоже. Русских – человека четыре. Эти новые были. Мама говорила, лет десять назад приехали. Нет, не ссорились, но дружбы, кто не молодой, сильно не водили».
Лукерья Гавриловна рассказывает, что все руководящие посты в деревне к 1930 году оказались заняты бесермянами. Легко понять, что при проведении советской властью кампании по раскулачиванию в подавляющем числе кулаками были объявлены удмурты. Хотя много богатых было и среди бесермян. Одежду раскулаченных отдавали бедным бесермянам.
И у семьи Поторочиных отняли пасеку, домашний скот, одежду, утварь и продукты. Но – не то из жалости к семерым детям, не то в насмешку, не то для того, чтобы не протестовали – не выселили из дома. Гавриил Поторочин не захотел с этим мириться. Дошел с жалобой до исполнительного комитета в селе Зура.
Но за свое выступление «против колхозов и Советской власти» был арестован и сослан на строительство железной дороги. Вскоре его жена и дети оказались рядом с ним. Здесь, на строительстве, им повстречался один из русских, живших ранее в их деревне.
«Русских всех покулачили. Кого выслали, кого арестовали… Нет, какие они богатые были. Так, домишко, коровка да курочки. Расплатились с властью малой кровью – нашими головами», – вспоминает Поторочина.
Вскоре им удалось бежать. Но куда пойти раскулаченным, арестованным, а теперь еще и беглым? В родную деревню? Родной дом давно занят другими людьми, и рядом наверняка ждут, чтобы вновь арестовать.
Тот самый арестованный русский (он бежал вместе с ними) предложил отправиться в деревню, где жили его родственники. Там и прожила семья Поторочиных 5 лет, пока не стало возможным вернуться в Бедколуд. Лукерья Гавриловна не помнит названия той деревни, зато ей хорошо запомнилось, что русские во многом им помогали: давали продукты, одежду детям в долг и просто так, за то, что «хорошие люди, а плохо живут».
Почему они поступали так? Я думаю, в силу природного добродушия и еще потому, что, может быть, сами уже достаточно пострадали из-за чьей-то ненависти и поняли: неважно, к какому народу принадлежит попавший в беду, главное, что ему нужна помощь.
Обратимся к статистике.
С 1929 по 1933 год Зуринском районе из 1215 человек русского населения было раскулачено 206. Из 3647 удмуртов – 217[10].
По соотношению видно, что существовало предвзятое отношение к русским. Я предполагаю, что в первую очередь избавлялись от «чужих».
Пусошур против Ершовки
Недалеко от города Глазова, на реке Парзи, стоит деревня Пусошур. Одним концом его улицы утыкаются в поле, другим – подходят к мосту. За мостом улицы вновь продолжаются. Только это уже другая деревня – Ершово. Ершовка, по-местному. Не то всегда здесь были две деревни, не то одна со временем разрослась настолько, что переметнулась через реку и распалась на две части, никто не упомнит.
Так повелось, что в той части, которая Ершово, живут в основном русские. В той же, которая Пусошур, – удмурты. Так живут здесь сейчас, жили так и в начале XX века. В деревне Пусошур 20 апреля 1922 года в восьмом от моста доме родилась четвертая моя героиня – Зинаида Александровна Зворыгина.
Отец – Александр Андреевич, сам удмурт по национальности, взял в жены русскую из деревни Тотош – Федосью Ивановну Волкову.
Когда я сообщила Зинаиде Александровне, что интересуюсь взаимоотношением различных народов, она рассмеялась:
«У нас дома чуть не каждый день «межэтнические конфликты» случались. Отец у меня рыжий был, ну ровно огонь. Все северные удмурты они такие. Вот мать, как он не по ее желанию что сделает, так напускалась: «У, рыжий черт! Вотяк!» Тот обижался. Один раз сказал: «Косы бледные оторву!» А так нет, не отвечал. Знаешь, удмурты – они тихие, скромные. Шуметь никогда не любили».
Хозяйство Зворыгиных нельзя было назвать богатым. Бедным, впрочем, тоже. На общей волне экономического подъема 20-х годов глава семейства хотел было обзавестись какими-либо средствами производства. Вздыхал иногда: «пригодилась бы молотилка, а лучше – маслобойка», но не успел. Возможно, эта нерасторопность и спасла семью. А может быть, Александр сумел вовремя сориентироваться, потому что в 1928 году он вступил в коммунистическую партию. К началу кампании по раскулачиванию он уже занимал видную должность в сельсовете и вошел в комиссию, выявлявшую кулаков.
Федосья над успехами супруга посмеивалась, но поддерживала: кому, кроме жены, служить опорой мужу, даже если они принадлежат к разным народам? С отношениями в семье все более менее понятно, что же сказать об отношениях двух деревень или частей одной деревни?
Пусошур и Ершовка находились в состоянии давней дружбы-вражды. Дружили домами. То тут, то там справляли общие свадьбы, молодежь бегала через мост на посиделки; вместе играли дети как тех, так и других, «зареченских». И в то же время сохранилась между деревнями атмосфера соперничества: то пусошурские у себя дом необычный выстроят, то ершовские церковь поставить задумают.
К 1928 году у жителей Ершово на соседей «имелся зуб»: в начале 20-х в этих местах прокладывали дорогу. Инженеры долго рядили, как должна она идти. Совещались, измеряли, перемеряли, вызывали комиссию из столицы. В конце концов дорога прошла через Пусошур. Ершовские обиделись: они много потрудились на сложном участке – песчаной горке, а «вся слава» отошла к «зареченским». Этот своеобразный счет нужно было сравнять.
Вокруг было много деревень: и русских, и удмуртов, жили даже бесермяне. Зинаида Александровна вспоминает:
«Вот в Тотоше, откуда мать, там русские жили, но это далеко… От нас через лог тоже русская деревня была – Красногорье, правда, там «кержаки» жили, староверы то есть. Этих любили. Они ведь аккуратные очень были, деликатные, исполнительные. Они и работали хорошо, и не пили. В Сепыче, в Уракове – удмурты. Рядом бесермяне жили. Немного, дворов пять – починок это тогда называлось. Наши к бесермянам не ходили, недобрые те были люди».
Зинаида Александровна говорит, что жили все дружно, особенно молодежь. Часто устраивали общие праздники. Собирались в один дом из близлежащих деревень, готовили угощение и праздничные речи – как гости, так и хозяева. Христианские праздники справляли по очереди в Ершове и Красногорье, удмуртские («гырон-быттон», «гербер») – в Пусошуре.
Старшее поколение, впрочем, тоже не чуралось забегать друг другу в гости и просить помощи в работе.
Отношения были мирные, дружные – добрососедские, одним словом. В 1928 году в Пусошуре организовали колхоз. Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что коллективизация здесь началась именно с образования колхоза, как и хотели идеологи советской власти, а не с раскулачивания.
Правда, колхоз носил скорее символический характер: были председатель и счетовод (бухгалтер), но не было ни одного крестьянина-колхозника. В одном из хозяйственных помещений клуба (барачного типа сооружение из досок) учредили «правление колхоза». Поставили стол, на дверь – красное полотнище: – «Правление колхоза». Походили с месяц агитаторы по односельчанам, да и бросили.
Уборочная страда – не самое подходящее время для политической пропаганды. Крестьяне заняты на поле и в огороде. У них нет времени на «пустые» разговоры, да и самим агитаторам нужно вести собственные хозяйства. К тому же даже самые ярые коммунисты в колхоз пока не вступали. У селян не было примера, за которым можно последовать. Деревня размышляла.
А в январе 1929 года уже стали раскулачивать. Просматривая архивные документы, я пришла к выводу, что кулаки отбирались прежде всего по национальному признаку – 8 из 12 оказались русскими. Комиссия по выявлению кулаков состояла в основном из удмуртов. И, как мне кажется, не захотели они лишать крова своих родственников. (Здесь, как и везде, жили, в основном, необыкновенно разросшиеся семьи.) Вот так «свои» в одно мгновенье стали «чужими».
В Ершово безучастными к «избиению русских» не остались. Весь род удмуртов Поздеевых в составе семи дворов был лишен избирательных прав. В архивных документах, в фонде Р-427, опись 2, дело № 39, возле имен троих из Поздеевых поставлены пометки: «выявить признаки кулака». Что ж, видимо, поручение было исполнено, как надо.
Тем временем в Пусошуре стали организовывать настоящий колхоз – собрали домашний скот в одном кулацком хозяйстве.
А вот Александр Андреевич Зворыгин попал, что называется, под перекрестный огонь. С одной стороны – односельчане ругали его за то, что «своих» раскулачивает, подразумевая не только удмуртов, но и вообще тех, с кем много лет прожил бок о бок. С другой – «надежда и опора», жена выговаривала и за «своих», и за колхоз. Она дошла до того, что вечером, прокравшись на территорию скотного двора, выпустила всех свиней, а после долго смеялась над неуклюжими попытками колхозников (почему-то это были только мужчины) поймать их.
Действительно богатых людей, таких, какими описывают в литературе советского периода «кулаков», в деревне и не было. Разве что Пономарев Иван. Остальные, даже имея в собственности молотилку, кузницу или маслобойку, в быту были людьми небогатыми. В качестве примера приведу опись имущества Федора Ануфриевича Волкова, подвергшегося раскулачиванию жителя деревни Пусошур[11]:
|
маслобойка |
1 |
валенки |
2 |
|
изба |
1 |
калоши (старые) |
1 |
|
постройки |
4 |
сапоги (старые, без пары) |
2 |
|
стол |
2 |
кринки |
3 |
|
стул |
1 |
тарелки |
2 |
|
лавка |
2 |
чугунок |
3 |
|
рубаха |
2 |
ложки |
5 |
|
тулуп |
1 |
|
|
Где же тут «буржуйские» ананасы с рябчиками, если тарелок и то две, а одеться не во что. Такие люди все деньги вкладывали в «дело», не растрачивая на роскошь, наоборот, экономя на чем только возможно. И этот человек позволит отнять у себя все, трудом и кровью нажитое? Будет спокойно стоять и смотреть, как описывают его имущество, ни словом, ни делом не воспротивится? Не будет! Так почему же пусошурцы без протеста покидали свои дома?
Я думаю, что в первую очередь виновата внезапность: крестьяне не успевали опомниться, как оказывались на улице. Еще боялись оказывать сопротивление вооруженным людям, ведь часто активисты приходили с ружьями и винтовками. Но главной причиной, как мне кажется, явилась привычка повиновения власти, уверенность в том, что от нее не убежишь, не спрячешься. Поэтому лучшим выходом они полагали подчинение. Как, впрочем, и те, у которых не было ни денег, ни «дела», ни роскоши, но которых раскулачивали уже не по классовому признаку.
Пусошурские мужики с ершовскими долго не разговаривали. Так две деревни стали друг другу чужими. И по ту, и по эту сторону речки жили сестры и братья, если не родные, так двоюродные уж точно, а судьба-хозяйка вот так распорядилась. После же все равно помирились; тяжело жить бок о бок с соседом и не перемолвиться словом, да и многолетняя дружба в одно мгновенье не забывается.
А в начале осени приключился в обеих деревнях большой пожар. Вот как вспоминает об этом Зинаида Зворыгина:
«Август и сентябрь жаркие были, сушь стояла. Ночью за шесть домов от нас загорелось. На сеновале вспыхнуло сено, все строение занялось. Огонь на соседний двор пошел, потому что у тех постройки близко были. Отец, как узнал, побежал тушить. А тут и в Ершовке что-то загорелось».
И в Ершовке,и в Пусошуре хозяйства отстояли. Но оказалось, что в это же время горел колхозный скотный двор. Крестьяне, занятые пожаром в начале улицы, этого огня уже не заметили. (Видимо, для этого дома и подожгли.) Колхозный сторож успел выпустить животных, постройки же выгорели дотла.
Виновников так и не нашли, а восстанавливали колхоз силами обеих деревень. «Свои» вновь стали «своими».
Проведя беседы с Серафимой Федоровной Титовой, Лукерьей Гавриловной Поторочиной и Зинаидой Александровной Зворыгиной, а также изучив литературу и архивные документы конца 20-х – начала 30-х годов, я могу сделать следующие выводы.
Итак, в этот период с усилением социальной и политической напряженности в стране усиливается напряженность и в отношениях между русским и удмуртским народами.
Кандидаты в «кулаки» отбирались по классовому признаку, то есть выискивали, прежде всего, богатых, но немаловажную роль играли тут и межэтнические отношения. Обнаружить «признаки кулака» можно было практически у любого человека, было бы желание и сноровка.
В деревне, чаще всего, жил один род – потомки одной семьи, поэтому представители одного народа оказывались родственниками. Так было и у русских, и у удмуртов. Вот пришло из исполкома в сельсовет постановление: выявить кулаков. Кого же раскулачивать? Конечно же, в первую очередь тех, кто не принадлежит к семье, к роду – «чужих» – людей другой национальности.
Я думаю, что многие предпочитали «расплатиться с властью малой кровью», сохранив «своих». Не последнее место занимала в перечне причин и неприязнь к «чужим» как к представителям другой нации, «пришлецам», отобравшим прадедовскую землю (вспомните перераспределение земли 1918 года).
И происходило так, что в местах многолетнего совместного проживания различных народов «свои» – то есть народ, имеющий большинство представителей, а значит, занявший руководящие посты в управлении селением, начинает раскулачивать «чужих» – тех, кто находится в меньшинстве.
Так, в деревнях Кибек-Пельга и Пусошур, где большую часть населения составляли удмурты, раскулачиванию были подвергнуты в основном представители русской нации. В деревне Ершовка, наоборот, политика раскулачивания была направлена против удмуртов. В деревне Бедколуд и те, и другие оказались выдворены из родного поселения.
Те, кто проводил политику власти, оборачивались новым пугающим лицом как к «своим», так и к «чужим». В угоду правящим или режиму, или, руководствуясь какими-то иными побуждениями, все силы направляли против тех, кто еще недавно был самым родным и близким, кого еще недавно называли друзьями. Как это произошло с Семеном Титовым, который, будучи русским по национальности, своих и уничтожал в первую очередь. Причем не просто русских, а собственных родственников.
Но в то же время многие люди, натерпевшись за долгие годы от национальных конфликтов, становились терпимее к людям других наций. И с радостью помогали всем, кого не пощадила судьба, кто попал под репрессии, стал жертвой все тех же национальных конфликтов. То, что человек нуждается в помощи, было для них куда важнее того, какой он национальности, как он выглядит, каким богам молится, во что верит – «чужой» принимался ими как «свой».
Многие, несмотря на все, что происходило тогда в стране, оставались верны своему долгу родным, живущим забор в забор с ними соседям. Так, например, поступали староверы, которые «своих не раскулачивают». Так поступали и «безымянные» друзья-удмурты отца моей бабушки.
Сейчас, невзирая на все, что было в прошлом, на имевшую место межнациональную неприязнь, все народы на территории Удмуртской республики живут в мире и согласии.
Это подтверждают и мои героини.
«Сейчас мир сильно изменился, – говорит Лукерья Гавриловна. – Я живу в доме, который раньше не могла себе и представить. Рядом, на моей лестничной площадке, живут еще две старушки. Одна – русская, другая – бесермянка. Это я точно знаю. Может, она из моей деревни, может быть, ее отец раскулачил моего. Я не спрашиваю. Не надо больше вражды. Мы должны жить мирно, дружно. Русские, удмурты… Все».
То же подтверждает и моя бабушка – Серафима Федоровна Титова. В деревне, где живет, она поддерживает со всеми окружающими удмуртами добрососедские отношения.
Я считаю, что так должно продолжаться и в будущем, потому что, хотя и относимся к разным нациям, мы все – россияне.
[1] Куликов К.И. Удмуртия – субъект России:(1990-е годы): Проблемы экономики, политики, национальных отношений: Учебное пособие. Ижевск: НИСО УРО РАН, 1999. С. 60.
[2] 400 лет вместе с русским народом / Ред. И.П. Емельянов, Е.П. Никитин. Ижевск, 1958. С. 5.
[3] 400 лет вместе с русским народом. С. 34.
[4] Шкляев Г.К. Межэтнические отношения в Удмуртии: Опыт историко-психологического анализа.
Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы УРО РАН, 1998. С.125.
[5] Там же. С.127.
[6] Шкляев Г.К. Межэтнические отношения в Удмуртии. С.131.
[7] Книга для чтения по истории СССР: 1917–1937 / Ред. Э.М.Щагина. М., 1985. С.139.
[8] Энциклопедия для детей. Т. 5, ч. З: История России, XX век. М., 1998. С. 549.
[9]/ Списки граждан, лишенных избирательных прав (по районам) за 1934 год/ ЦГА УР. Ф. Р-195.Оп.4. Д. 303.
[10] ЦГА УР. Ф. Р-430. Оп.1. Д. 4.
[11] ЦГА УР. Ф. Р-427. Оп.2. Д. 9.