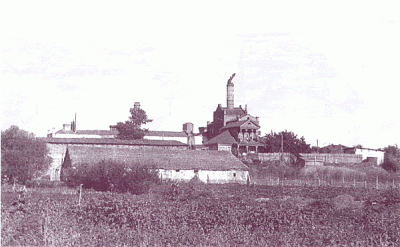Алексей Наумов «История моей семьи»
Рубрика Россия в семейных историях
г.Москва,
школа № 1505,
10-й класс
Научный руководитель
Л.А.Наумов
Третья премия
До и после революции…
Происхождение семьи мне удалось проследить лишь со второй половины девятнадцатого века. Семейное предание утверждает, что мой прапрапрадедушка (фамилия была Мериминский, имя неизвестно) был кантонистом, поселившимся в Крыму во времена Николая I. Никаких подробностей семейная традиция не сохранила, и чтобы как-то описать жизнь кантониста, я обратился к литературе.
Кантонист – крепостной крестьянин, пришедший со службы в армии.
После того как крепостного крестьянина забирали в армию, он переставал принадлежать помещику и переходил в распоряжение военного ведомства. Дети, родившиеся в семье солдата, числились теперь за этим ведомством и с четырнадцати лет поступали в школы и батальоны кантонистов: в сущности, это была измененная форма крепостного права. Впоследствии туда стали посылать не только детей солдат, но и подкидышей – малолетних бродяг, детей цыган, старообрядцев и сосланных польских повстанцев. В этих военных заведениях для несовершеннолетних скапливались тысячи детей со всей России. Там царили грубая атмосфера, жестокие нравы, суровые наказания и издевательства. Батальоны и школы кантонистов называли в народе «живодерней». Детей муштровали, плохо одевали и кормили впроголодь – щи из гнилой капусты с гнилыми вареными раками да ложка каши, а за украденный кусок хлеба давали двадцать пять розг.
Прапрапрадедушка мой был еврей по национальности (точнее, иудей по вере – в царской России фиксировали вероисповедание, а не национальность). Еврейские мальчики, попадая в кантонисты, тоже становились собственностью военного ведомства – «сиротами при живых родителях», и командиры распоряжались ими практически как крепостными. По идее рекруты-дети могли оставлять свою веру, но их брали маленькими, чтобы легче было сломить на свою веру (христианство). Те, кому было восемнадцать лет и больше, еще могли отстоять себя и свою веру. Детям же это было значительно труднее. Их постоянно принуждали к переходу в православие, и упорствующих безжалостно истязали: секли без конца, пропускали сквозь строй, оставляли неодетыми на морозе, кормили соленой рыбой, а потом не давали пить, ставили на битый кирпич, горох. Крестившемуся кантонисту тоже было нелегко. Он толком еще не знал русского языка, не знал и христианских молитв. На ежедневной проверке выкликали, к примеру, Федора Петрова, а он не отзывался, потому что не помнил своего нового имени. Письма от родных тоже не поступали по «законным обстоятельствам»: после крещения имя крещеного менялось, старое имя было недействительно, и письмо отсылалось назад.
Неизвестно, крестился ли мой прапрапрадедушка, но после окончания службы в армии он поселился в Крыму и получил хутор. Внучка его была еврейка и вышла замуж за еврея. Но много об этом времени мне выяснить не удалось.
Где-то в конце XIX века мелкий ремесленник (сапожник) Яков Клейман взял в жены дочку этого Мериминского, и в 1901 году у них родилась дочь Сарра – моя прабабушка. О ее жизни я много знаю по ее воспоминаниям, записанным ею самой, и по воспоминаниям ее детей.
С 1910 по 1913 год они жили в сельской местности, с 1913 года переехали в город Симферополь. Семья состояла из восьми человек.
Началась Гражданская война. В начале 1920 года Сарра совмещала учебу в гимназии с работой официанткой в домашней столовой на Мало-Базарной улице в доме № 4. Очень помогало, что как отличница она не платила за обучение в гимназии – денег в семье было мало.
Именно тогда, в начале 1920 года, она познакомилась со своим будущим мужем Наумом Глатманом. Про него мне известно меньше – его отец Абрам Глатман жил в Речице (Белоруссия), служил в днепровской частной пароходной компании. Наум (род. в 1898) поехал учиться в Петроград осенью 1916 года, участвовал в штурме Зимнего, вступил в РКП(б), был направлен в киевскую ЧК, а оттуда очень быстро переправлен в крымское подполье.
Власть в Крыму постоянно менялась, приходили красные, их сменяли белые, эскадронцы, были немцы и другие, наконец, в 1919–1920 годах надолго осела белая армия Деникина, а затем Врангеля. Вот в это время моя прабабушка познакомилась с Наумом Глатманом. В столовой, где она работала, была явка. Наум попросил ее помочь в организации встреч с другими подпольщиками в садах и на улице: гуляющая молодая парочка или группа юношей с девушкой вызывали меньше подозрений. Надо заметить, что крымская контрразведка при Врангеле добилась больших успехов в борьбе с большевистским подпольем. Через некоторое время Наум уехал в Евпаторию, где его назначили секретарем подпольного горкома. Это было весной 1920 года.
Несколько недель спустя моя прабабушка получила от Наума письмо, в котором говорилось, что он скоро приезжает и что она должна приготовить ему убежище. Но в это время белые объявили, что за сокрытие государственных преступников будут применяться строгие меры, вплоть до смертной казни, поэтому она не смогла найти Науму убежище и (с разрешения своих родителей) поселила его у них в квартире во второй комнате. Днем, как правило, Наум сидел дома, а вечером отправлялся на явки вместе с ней. Соседям она говорила, что они уходят торговать папиросами на рынок. Родители знали, что Наум большевик-подпольщик. «Несколько дней спустя к нам… ворвались сорок вооруженных офицеров и, миновав первую комнату, сразу вошли во вторую, где жил Наум». Через несколько дней была арестована и моя прабабушка.
После ее ареста, в тот же день, были арестованы ее отец, мать, младший брат и сестра, но через два дня их, кроме матери, освободили, а мать ее, как хозяйку квартиры, оставили в тюрьме, где она и просидела с Саррой до конца следствия. Через месяц ее мать получила в тюрьме извещение, что ее дело будет рассматриваться судом городской прокуратуры, то же получил и Наум, а моей прабабушке сообщили, что ее будут судить военно-полевым судом.
День спустя она услышала шум, это Наум и Курган (член областного комитета партии большевиков) выбрались из камеры и освобождали других (в это время красные были рядом с городом). После этого Наум и Курган убежали и образовали Комитет для захвата власти в городе.
Очень интересно, что и другая линия моих предков – греков – также жила в это время в Крыму, но была совершенно незнакома с Клейманами и Глатманом.
Мой прадед Константин Семенович Панаиотиди родился в 1892 году в Салониках в Греции. Он знал четыре языка – греческий, турецкий, армянский, русский. Моя прабабка Екатерина Ивановна Мавровли родилась в 1890 году в Салониках. Вскоре Константин Панаиотиди уехал на заработки в Россию (в Крым).
По семейным рассказам, в Салониках в это время началась резня греков турецкими солдатами, занявшими этот район. Двадцатичетырехлетняя Екатерина Панаиотиди взяла с собой сына Юру, и вместе с соседями и священником они пешком бежали от резни. Турки вылавливали таких беженцев и убивали. Греки шли в основном по ночам, а днем прятались. С ними было много маленьких детей, которые часто плакали… И вот однажды перед этими беженцами встал выбор: идти ли по более безопасному от нападения турок горному ущелью, но без детей, так как надо было соблюдать тишину, или идти по опасному ущелью, но с детьми. Моя прабабка не убила своего ребенка, а пошла с ним (и некоторыми другими) через опасное ущелье. Они успели дойти до Константинополя и там узнали, что первая группа была поймана турками и полностью вырезана. В Константинополе она заболела тифом. Потом, когда вылечилась, добралась до Батуми, затем пароходом через Черное море – в Крым, к своему мужу.
Исторически этот рассказ связан, видимо, с событиями Первой мировой войны. Греция разрешила Антанте высадить свои войска около города Салоники (там вскоре открыли Салоникский фронт). Поэтому получилось, что Греции стала противостоять Турция. В результате турки вырезали мирное население в греческих городах.
Сомнение вызывает сюжет, связанный с резней греков в Салониках. С одной стороны, у меня нет фактов, опровергающих это, с другой стороны, это остается под сомнением. Как я смог узнать из исторической литературы, на Салоники наступали не турки, а болгары. Ничего не известно о резне греков в 1915–1917 годах. В целом этот рассказ нуждается в проверке – либо мы имеем дело с неизвестными историческими фактами (или неизвестными мне), либо ошибается семейное предание.
В Крыму они жили в деревне Кирк, в греческой общине, там у них родились пять мальчиков и четыре девочки. Мой дед Иван родился в 1920 году в Кирке и был третьим сыном.
Хозяйство Константина Семеновича Панаиотиди было середняцким – лошадь, корова. Чтобы прокормить всех детей, работать приходилось круглые сутки. Мой дед Иван Константинович Панаиотиди вспоминает, что отец его учил: «Никому не завидуй. Если ты будешь богат, а люди нет, они тебя убьют, а хозяйство твое заберут. Если они будут богаты, а ты нет, то рядом с ними и ты проживешь». Коллективизация прошла спокойно. Встретил он ее без энтузиазма, но «плетью обуха не перешибешь».
Именно тогда, когда семья Панаиотиди осела в Крыму и влилась в общину крымских греков, Наум Глатман и Сарра Клейман перебрались в Москву. Глатман был делегатом (с совещательным голосом) X съезда РКП, принявшего решение о переходе к нэпу, остался в Москве, а затем стал учиться в Артиллерийской академии в Ленинграде.
В целом семья Наума Глатмана (Наумова) прочно обосновалась в советской жизни. Все его братья и сестры переехали в Москву. Комендантом в доме, где они поселились, был Мате Залка , они выбрали комнату, где окна были целы, а мебели побольше – чтобы было чем топить. В 1922 году у них родилась дочь Нелла. О их жизни той поры осталось мало материалов.
Семья Наумовых активно участвовала в жизни страны. В 1924 году Сарра Наумова вступает в ВКП(б) (так называемый ленинский призыв). Свидетельствует прежде всего ее личное дело: 1921–1922 годы (до апреля) – делопроизводитель ЦК РКСМ, потом шифровальщик Секретного отдела Наркомвнешторга, затем перерыв в работе до сентября 1923 года. В 1923–1925 годах Сарра училась в пединституте, а по вечерам работала кассиром в кинотеатре. Было очень тяжело, и она ушла из института.
В 1925–1927 годах она – технический секретарь партколлектива завода «Красный арсенал», то есть вернулась на партийную работу. Началась чистка «зиновьевцев» в партийных органах, и, видимо, освободились вакансии. Сохранились многочисленные фотографии 1925 года парткома завода «Красный арсенал».
В 1927 году Наум окончил академию и был направлен в Киев представителем Наркомата обороны на завод «Арсенал». Семья переехала с ним. Именно там и родился 5 апреля 1928 года Толя. В сентябре 1928 года Сарра снова вышла на работу – техническим секретарем 1-й фабрики гособуви.
В 1931 году Наума переводят в Москву. Формально он работает по линии Наркомата внешней торговли, но фактически сотрудничает с Разведывательным управлением РККА. Начинаются многочисленные поездки по Европе. Остались сведения о командировках в Германию (1931, 1932), Италию (1932), Швейцарию (1932). О жизни детей рассказывают их письма и письма отца. (Вот некоторые из них; я старался сохранить орфографию):
«Берлин 8.02.32. Милая Неллочка. Ведь если Толька не пишет мне понятно, что он не умеет. Ты же можешь писать. Значит не хочешь. Уехал – вот и забыла. Ухаживаешь ли за Толькой или изолирована. Старайся не заболеть. Ходишь ли в школу. Напиши обо всем. Эта открытка – фотографич. снимок с одной из главных улиц Берлина ночью (Фридрихштрассе). Ты сохрани и Толькину, я приеду расскажу много интересного. Если будете оба писать, буду каждый день высылать виды городов. Как проводишь время? Скажи маме, чтобы и она чаще писала. Передай по телефону всем привет от меня. Твой папа Наум».
«24.02.1932. Дорогой папа. Мне карточки очень понравились. Занимаюсь я хорошо, только у меня сломалась палка от лыж и я катаюсь без палок, но все равно одинаково что с палками или нет. Мы с мамой хочим перед твоим приездом скаасить (?) все книги которые на этажерке. Бабушка просит что бы ты привез ей сахарин. Толя стал важным, если мне делают замечание, то он радуется. Которые ты прислал открытки он сделал альбом и пришил открытки. Потом нодадела дирок (?); я ему говорю ненадо папа невелел положи ко мне в альбом, но он не хочет и недает. По телефону он стал говорить лучше. Я теперь стала хорошо писать, только сейчас я начала спешить потом у меня мама гонит спать. Ведь сейчас 9 и 30 м часов. Ну пока досвидания Нелла Н. Подлинная диктовка Толи» (писала, видимо, мама. – А.Н.).
«Здравствуй папа! Я поправляюсь я кушаю хорошо. Купи два велосипеда. Мне и Неллы. Целую крепко. Приезжай Толя».
У Н.А.Наумова было два ромба. После 1935 года он получил звание военного инженера 1-го ранга (три шпалы), по нынешней иерархии – полковник. В 1933 году его перевели на постоянную работу в берлинское торгпредство (работа в разведке продолжалась). На постоянную работу отправляли с семьей – так в марте 1933-го дети оказались в Берлине.
Одновременно он сотрудничал с Главным разведывательным управлением (ГРУ) РККА. (Его непосредственным начальником был известный чекист К.А.Артузов.) Большая часть его работы проходила в Западной Европе, в семейном архиве хранятся несколько десятков открыток, которые он присылал из разных городов – Антверпена, Копенгагена, Вены, Парижа, Варшавы и др.
Берлин 1933–1936
Об этом периоде детства можно узнать из писем и рассказов Анатолия Наумовича Наумова 1999 года:
«В Берлине мы снимали две комнаты. Сдавал квартиру архитектор Ребель. Он был уже давно безработный, но в прошлом, видимо, преуспевал. У него была шестикомнатная квартира. В одной комнате жил он сам, во второй – экономка. В двух комнатах – мы с родителями. Еще одну сдавали молодому почтовому служащему и одна была гостиная. Я ходил всюду и всю квартиру считал своей».
Это была уже фашистская Германия. Президент Гинденбург назначил Гитлера канцлером.
«Я знал, что мы находимся во вражеской стране и окружены врагами. Впрочем, сам Ребель был скорее антифашистом. Во время праздников в Германии было положено вывешивать флаги в окнах. Не так, как у нас (в СССР. – А.Н.) – на доме, а из каждой квартиры. После победы Гитлера полагалось вывешивать два флага: германский – трехцветный – и фашистский – красно-белый со свастикой. Так вот, национальный трехцветный Ребель вывешивал, а нацистский нет. Когда к нему приходили нацистские агитаторы и стыдили, он отвечал: “Там, где можно вывесить еще один флаг, живут русские – это не моя квартира, и я не могу им приказывать”. Очень может быть, что после нашего отъезда он за это поплатился.
Выше нас в этом же доме жил какой-то важный нацистский чин – по крайней мере на работу он всегда ходил в партийной форме. Когда в лифте он ехал с нами – мамой и мной, он всегда вежливо здоровался: “Гутен таг”, и мама ему всегда отвечала так же… Если ехали мы с отцом, нацист вызывающе кричал: “Хайль Гитлер”, но отец всегда дипломатично отвечал: “Гутен таг”.
На улицах мы часто видели демонстрации штурмовиков, факельные шествия. Толпа на тротуарах реагировала очень бурно, кричали “Хайль!”. Все было, как сейчас показывают в кино. Находиться в толпе и молчать было опасно – могли побить. Поэтому мы с мамой, когда видели демонстрацию, всегда прятались в кафе или забегали в подворотню, подъезд.
Во дворе я часто играл с соседским парнем – сыном смотрителя подъезда. Он был штурмовик и часто ходил в форме (его отец был штурмовик? – А.Н.). Играли обычно в войну, и если мальчишка в запале кричал “Хайль Гитлер”, я всегда вызывающе молчал. Надо думать, мы для него были богачи – у нас была машина.
А вот знал ли он о том, что мы евреи, – я не знаю. Вообще, я не видел антисемитизма в Германии, но у меня и не было особенно возможности с ним столкнуться» .
Отец часто ездил в командировки, цель которых проследить сложно. Мать работала техническим секретарем берлинской партийной организации торгпредства и полпредства. С 1 января 1934 года она, как и муж, стала сотрудничать с разведкой. «На эту работу, предложенную мне уже в Берлине, я согласилась, хотя и была предупреждена об ее опасности не только для меня лично и для моей семьи, но мой провал может отразиться и на тех, с кем мне придется иметь связь» (Из заявления в КПК ЦК КПСС 1977 г.).
Резидентом военной разведки в Германии был Оскар Стигга, а его помощником Макс Максимов (именно он перестраивал работу резидентуры после победы Гитлера). Акцент делался на поиске военно-технических сведений.
В августе 1934 года отец вернул Неллу в СССР продолжать обучение – школа при советском посольстве была только начальная. Нелла поселилась в доме старшего брата отца Леонида Александровича Зорина (Давида Абрамовича Глатмана). Он был сначала директором фабрики «Красный Октябрь», а затем стал начальником Главкондитера СССР. Должность высокая, выше только А.И.Микоян – нарком пищевой промышленности. Жили в трехкомнатной квартире по адресу: 2-й Хвостов пер., д. 10, кв. 45. Сам Н.Наумов вскоре вернулся в Германию.
В феврале 1935 года важное событие произошло в Разведуправлении. Это так называемый копенгагенский провал. 19 февраля датская полиция арестовала резидента в Дании Алексея Улановского и трех резидентов, направленных в Германию, – Макса Максимова, Давида Угера и Д.Львовича. Кроме того, было арестовано десять сотрудников разведки (американцев и датчан). Историки утверждают, что этот провал стал причиной устранения Артузова от фактического руководства Разведуправлением РККА.
Весной 1935 года Н.Наумов отправился в командировку в Швейцарию. Письма его внешне совершенно будничные, но в них сквозит стремление узнать новости о событиях на родине:
«Цюрих 2 III 35. Здравствуй. Прибыли благополучно и приступили к работе. Два-три [дня] только здесь, а уже надоело. В воскресенье выезжаю в Женеву и оттуда в Италию. У меня пока новостей, конечно, нет, но полагаю, что твои письма застану в Милане полные новостей (выделено мной. – А.Н.). Целую тебя и Толю».
«Женева 3 III 35. Здравствуй. Ограничусь сейчас короткими посланиями, полагаю, что в Италии буду свободнее во времени и напишу подробное письмо. Здесь много работы. Собственно я доволен, что поехал, здесь можно поработать и отдохнуть после работы… Жду твоего письма с возможными новостями из Берлина. Ведь здесь я газет наших не могу достать и живу без единого живого слова» (выделено мной. – А.Н.).
Трудно сказать, какие новости его интересовали. О международных он мог бы узнать и из местных газет, значит, советские. Тогда какие? Из текста открытки следует, что он ездил за деньгами. Ноябрь 1935 года Н.Наумов тоже провел в командировках – Нидерланды, Дания.
В конце февраля 1936 года родители Толи оказались в командировке в Париже. Первое их письмо Толе в Берлин датировано 27 февраля.
7 марта 1936 года Гитлер отдал приказ немецким войскам войти в демилитаризованную Рейнскую область, и все со страхом ждали ответных мер союзников. Если бы конфликт действительно вспыхнул, родители и ребенок могли оказаться по разные линии фронта: Толя в Берлине, а Сарра и Наум в Париже. СССР в 1935 году был связан с Францией союзом и, возможно, не остался бы в стороне. Семьи советского посольства в Берлине были бы интернированы. Но все прошло спокойно. Письма Толи родителям спокойные и безмятежные – ему восемь лет, и он мало что понимает. Спокойны и открытки родителей.
Учились дети в школе при посольстве. Как уже говорилось, там были только первые четыре класса.
«В классе кроме учителя была воспитательница – немка Эльза. Ее, как и многих других в школе, приглашали из немцев-коммунистов. В школе был автобус, на котором мы часто ездили на экскурсии. Шофер тоже немец – Ганс».
К лету 1936 года Берлин изменился.
«Тем летом не было и намека на военные приготовления или какие-либо гонения, потому что Йозеф Геббельс запретил любую антисемитскую пропаганду, распорядился убрать со стен домов все антиеврейские плакаты и предупреждал горожан, чтобы они были улыбающимися и дружелюбными – столица нацистской Германии готовилась к встрече с внешним миром на Олимпийских играх. Подготовка велась воистину с тоталитарным размахом. Правительство Гитлера выделило 25 миллионов рейхсмарок на постройку девяти спортивных объектов, в число которых входил и огромный Олимпийский стадион в Берлине».
Однако Олимпиаду Толя уже не застал, она была в августе, а они вернулись домой в июне.
Москва 1937–1941
«Летом 1936 года мы вернулись в Москву. Она, конечно, отличалась от Берлина – в трамваях давка, я впервые увидел очереди в магазинах. Отец привез свой “форд”, но, конечно, им было трудно пользоваться – практически не было частных гаражей, слесарей, запчастей. Машина была обречена. Но все компенсировалось тем, что мы теперь были в “своей стране” – “дома”».
Семья Наумовых поселилась в квартире Леонида Зорина, а он переехал в другую квартиру – служебную. Толя и Нелла теперь ходили в одну школу. 31 декабря 1936 года отец принес в дом елку и ее украшали всей семьей – так теперь отмечали Новый год.
Летом арестовали Леонида Зорина. А 13 октября 1937 года был арестован и расстрелян отец Неллы и Толи – Наумов Наум Абрамович (официально было объявлено «десять лет без права переписки»). Мама, Наумова Сарра Яковлевна, получила восемь лет как «член семьи изменника Родине» (ЧСИР).
«А 1937 год был так короток – нам пришлось так мало быть вместе – и вот разлука на долгие томительные годы», – написала потом Сарра в своем письме из лагеря.
Сохранилось удивительное воспоминание о том дне: «Вспоминаю тебя часто, после ухода папы ты через месяц, сидя в ночной рубашке над постелью, когда дома никого не было, сказал, что когда папа уходил, ты в первую минуту подумал не о нем, а о твоих марках, и как ты мне сказал “мама, я очень плохой мальчик”, а, выслушав тебя, я хорошо поняла тебя, Толенька, ибо даже взрослые в момент нервного удара и переживаний в первую минуту часто вдруг обращают внимание на совершенно ненужные мелочи, а потом за то очень тяжело» (Из письма Сарры Толе).
У прадедушки была дача в поселке семей комсостава «Красная звезда» (Красково). Сейчас там два памятника. На одном из них фамилии погибших на войне – их 5. А на втором фамилии репрессированных – 42. Вывод очевиден. Хотя возможно, если бы они пережили 1937-й, то погибли бы в 1941-м – офицеры…
С детьми осталась бабушка – мать Наума, Мария Глатман. Жизнь, конечно, сразу стала намного тяжелее. Деньги приносили родственники. После ареста родителей они собрали все оставшиеся вещи и стали потихоньку их продавать. Об этом вспоминает сейчас мой дедушка. Об этом сохранились и воспоминания в письме, правда, более позднем: «Теперь я тебе отвечу на твой вопрос о деньгах. То, что получает Неллка (речь идет о стипендии. – А.Н.) … идет у нас только на квартиру, дорогу и всякий мелкий расход, хлеб и т.д. На питание добавочное деньги дает Мирра. Она продает кое-какие вещи». Родители вывезли из Германии много разных вещей – одежду, посуду, сумочки и т.п., которые в условия дефицита потребительских товаров можно было легко продать. Многое, но не все, вывезли при аресте энкавэдэшники, на остальное жили. В целом родственники поддерживали детей. Родственники продолжали хлопотать и о судьбе репрессированных: «Дядя Ефим все ходит к прокурору насчет твоего заявления, но до сих пор еще никаких результатов нет» (1.02.40). Принятая в семье версия ареста: судебная ошибка – они ни в чем не виноваты. Первоначально даже не был известен приговор: «Мамочка, ты пишешь, что мы знаем, за что ты арестована, а мы этого до сих пор не знаем» (Толя. 8.02.40).
Следует признать, что формула Сталина «сын за отца не отвечает» все-таки иногда действовала. Сейчас Анатолий Наумов не может вспомнить никаких притеснений по отношению к себе как к «сыну врага народа». Он по-прежнему был пионером, а сестра Нелла – комсомолкой. «Да, мамочка, вчера у нас было собрание. Были перевыборы ученического комитета, который является 2-ым лицом после директора. Меня снова выбрали и Женю тоже на этот раз» (Нелла. 8.02.40).
В школе никто не упоминал об их беде, не было никаких собраний, и никто не требовал никаких отречений.
Но особенно комфортно Толя чувствовал себя во дворе. Здесь были друзья – Лева и Игорь. Кроме того, во дворе действовал пионерский отряд. В то время пионерские отряды возникали не только по месту учебы, но и по месту жительства. Пионерский отряд во дворе дома № 10 во 2-м Хвостове переулке создали сестры Зендовичи. Они были дочерьми коммуниста-поляка, давно жившего в СССР, он был некоторое время секретарем райкома. Ходили, как и положено пионерам, – в белых рубашках с красным галстуком. Играли, проводили собрания. Особенно Толе запомнились походы отрядом в кинотеатр «Ударник»: строем с барабанным боем, под красным флагом – было здорово.
Кроме того, Толя собирал марки. Увлечение это началось еще в Германии, но особенно развернулось уже в СССР. «Марок было много, красивые, с экзотическими животными и растениями», – вспоминает сейчас дедушка. Именно за эту коллекцию он и испугался в день ареста отца.
Мать из заключения пыталась как-то поддержать увлечение сына и, видимо, обещала присылать марки. Он принимает эту игру: «Насчет марок. Марки ты какие достанешь то присылай, так как если они у меня и есть, то я ими меняюсь или меняю мои, которые хуже» (1.02.40).
В августе 1939 года СССР подписывает пакт о ненападении с Германией. Анатолий Наумович Наумов вспоминает, что во дворе много говорили о том, что мы «заключили союз с фашистами».
Одной из книг, которые запомнились моему дедушке из той эпохи, была «Тайна двух океанов» Гр.Адамова. Книга рассказывала о загадочной и могущественной подводной лодке «Пионер» (советском «Наутилусе»), которая бороздит океаны, нанося удары по врагам Страны Советов. Главным врагом выступала, кстати, Япония: только что были военные действия у озера Хасан и на Халхин-Голе.
Основные интересы детей все-таки сосредоточены вокруг учебы: «Знаешь, мама, в этом году меня так многое интересует, что у меня нет времени всем заняться. Например: я хочу изучить немецкий и английский язык, научиться хорошо играть в шахматы, читать книги по астрономии и самое главное это математика. Я ее очень люблю и поэтому хочу пойти в тот институт, где она есть. Кроме того, я хочу быть инженером, а каким, до сих пор не решила» (Нелла).
«Ты, наверное, знаешь, что я люблю историю. В читальне я достал 3 книги “Одиссея” и “Илиада” Гомера и Куна “Что рассказывали древние греки о своих богах и героях”» (Толя. 8.02.40).
«Недавно я смотрела кино “Истребители”. Очень хорошая картина про летчиков. Ее считают одной из лучших картин. …Читаю я сейчас Шекспира “Король Ричард III”». (1.03.40. Нелла – Сарре).
«Ты представляешь, я до сих пор не могу остановиться на определенном институте. Мирра мне советует идти в медицинский, Миша – в медицинский, радиофакультет или в геологический. Но у всех есть слово “медицинский”. Я не знаю, почему мне вдруг расхотелось туда идти. Я хочу быть или инженером, или врачом» (13.05.40. Нелла – Сарре).
«Сейчас я много читаю, т.к. во время учебы я ни разу не читала. Прочла: Нейман “Дьявол”, Фейхтвангер “Лже-Нерон” и др. Мне особенно понравился “Дьявол”.
Вчера купила один учебник, который очень трудно достать – это “Теоретическая механика”. Остальные достану в библиотеке» (2.02.41. Нелла – Сарре).
Мать из лагеря пытается помочь детям хотя бы советом. 12.05.41: «Неллочка, попытайся все же написать в институт об освобождении тебя от уплаты за учебу. Неллочка, надо самой зайти к ректору и поговорить, ведь ты отличница, скажи, что на твоем иждивении брат, что материально вам тяжело, а помощь родных – ведь это не есть помощь тебе, скажи, что у родных есть мать, что помогают они Толе и им трудно платить еще и за тебя».
Война ударила по всем…
Добровольцем пошел на фронт Михаил Абрамович Глатман. Кандидат наук, он вступил в дивизию московского ополчения и погиб в окружении под Вязьмой. На войне погибли и два брата Сарры – Давид и Ефим. Прямым моим предкам повезло больше. На войне оказались два моих прадеда – Иосиф Яхнис и Иван Свиридов – и мой дед Иван Константинович Панаиотиди.
О судьбе Ивана Ивановича Свиридова на войне я знаю по рассказам его жены, Александры Никаноровны: «Ивана забрали, остались одни. Немцы подходили все ближе и ближе, и их гоняли на рытье окопов. Когда немец вошел в деревню, нас эвакуировали в соседнюю. В это время Иван попал в окружение, и его взяли в плен. Бежал и вернулся в родную деревню. Линия фронта проходила тогда по городу Белеву.
Тем не менее после освобождения города наши его судили и держали в Белеве. Через фронт, зимой, по холоду и под снарядами, одна, несла ему еду и справку о том, что он был председателем колхоза, спрятанную в каравае хлеба. В то время у меня родился мальчик Коля, было ему полгода. Пока я ходила, за ним не уследили – он заболел и умер», – вспоминает она. Ивану Свиридову дали десять лет (то ли за сдачу в плен, то ли за то, что он при немцах какое-то время был старостой) и отправили в Воркуту на шахты.
Другого моего прадеда, Иосифа Михайловича Яхниса, война застала инструктором Чкаловского летного училища в звании старшего лейтенанта. Отсюда он ушел на фронт, все годы войны летал на ночных бомбардировщиках, получил много орденов и медалей, участвовал в битве под Москвой, его часть сражалась под Калугой, он участвовал во взятии Кеннигсберга, кончил войну в должности командира полка.
С Иосифом Яхнисом произошла история, аналогичная показанной в фильме «Небесный тихоход». Различие только в том, что герой фильма успел взлететь до прихода немцев, а к самолету моего деда они успели подойти, постучали по крылу и кричали: «Рус, Рус! Вылезай!» В этот момент мотор ПО-2 заработал, и прадед спасся.
Намного трагичнее сложилась на войне судьба моего деда Ивана Константиновича Панаиотиди. Войну он встретил 22 июня 1941-го солдатом на Западной Украине (его, кстати, накануне войны перебросили с Дальнего Востока).
«Я видел полностью исправные брошенные танки, весь боекомплект цел, даже снаряд в стволе, а экипаж убежал», – рассказывал дед. Он отступал на восток. «Весь день летом 1941-го мы вели бои с немцами, сдерживали их. Вечером они кончали атаки – порядок и устав. Садились, пили кофе и играли на губных гармошках. А мы пытались ночью оторваться от них как можно дальше. Утром они поднимались, снова пили кофе и за час на мотоциклах догоняли нас. Снова весь день бои. Вечером все повторяется – немцы отдыхают, а я взваливаю на плечи плиту и двигаюсь пешком на восток. Когда мы добрались до Киева, там была мясорубка – но я отдыхал – ночью мы не воевали».
Под Киевом дед попал в окружение. Здесь его понимание событий резко расходится с общепринятым. Маршал Советского Союза Г.К.Жуков пишет, что из-за нежелания Сталина вовремя вывести войска из Киева в плен попала огромная советская группировка – более 600 тысяч – почти весь Юго-Западный фронт.
Дедушка вспоминает об этом с горечью: «Только мы отошли от Днепра и углубились в степь, начались массированные налеты, а мы как на ладони, и все вперемежку – солдаты, беженцы, техника. Когда нас несколько дней проутюжили и хаос стал полным, появились немецкие танки». Но причины катастрофы он видит иначе и убежден, что вообще не надо было выводить войска из киевского укрепрайона: «Там всего было достаточно – и боеприпасов, и продовольствия, – мы могли там немцев до зимы держать. Если уж погибать, то не так глупо».
Кто прав – известный военачальник или мой дед, я не знаю, но мнение его запомнил. Под Киевом дед попал в плен. В плену было ужасно, вспоминает он: «Немцы нас за людей не считали, содержали хуже, чем скот, я видел, как люди дрались и убивали друг друга за кучу картофельных очисток». Попытался бежать, поймали и избили до полусмерти. Отлежался. Потом перевели в другой лагерь, и снова сбежал (на этот раз из больницы) и два года скитался по Западной Украине – батрачил. В 1944 году, когда пришла Красная Армия, снова встал в строй, был награжден.
Но особенно много материалов удалось собрать о судьбе моего деда Анатолия Наумова в годы войны. Причина проста: как я уже говорил, остались письма. Мне кажется, что в каком-то смысле это типичная судьба ребенка. Летом 1941 года моего деда Толю отправили в пионерский лагерь. Это была Тульская область, в нескольких километрах от г.Плавска.
Сохранились письма Толи сестре Нелле, адресованные в Сталинград17. Первое сохранившееся письмо датировано 11 августа. Над пионерским лагерем нависла серьезная угроза. Там, тем не менее, пытались не терять присутствия духа (а может, и не понимали всей серьезности ситуации). В корпуса свозили оставшихся детей из соседних лагерей и пытались их чем-то занять.
«С завтрашнего дня начинается учебный год (для 7 кл.), – пишет Толя сестре. – Но в школу мы не пойдем, потому что в нашем селе есть только начальная школа, а семилетка есть в селе за 7 км. Заниматься мы будем с нашей вожатой. Погода сейчас плохая – вчера выпал снег, а сегодня он стаял и опять стало сыро, как и было раньше. На улицу выхожу редко, потому что ботинки прохудились, а галоши кто-то украл. В нашем интернате осталось всего 2 человека – это из 44. В нашем интернате живут ребята из 3 шк. – всего 10 человек. Скоро пришлют еще 20 человек из другого интерната… Напиши, можно ли мне приехать».
Глубокой осенью (в октябре) в лагерь приехал брат отца, Борис Глатман (он занимался строительством оборонительных рубежей на южных подступах к Москве), и забрал мальчика с собой. Дедушка Толя помнит знаменитую панику 16 октября 1941 года, когда немцы прорвали фронт. Он очень удивился, увидев, что трамваи, идущие к Казанскому и Ярославскому вокзалам, переполнены. Собственно, он один ехал тогда от вокзалов, а сотни и тысячи людей с вещами ехали в противоположную сторону. Придя в родной двор, он увидел, как сосед в котельной сжигает собрание сочинений Ленина и другие книги. Удивился, что сосед сжигает книгу Л.Кассиля «Великое противостояние». Чем его испугала детская книга? – недоумевал Толя. Вскоре паника улеглась. В конце октября его отвезли в деревню, откуда родом были родители жены Бориса Глатмана – Зои Рубашевой. До весны 1943-го Толя жил в с.Черниченко Горьковской области с Рубашевыми.
Эвакуация
По письмам Толи можно восстановить образ его жизни в деревне.
«Мы с Зоей ложимся спать в 9–10 часов. Пока не спим, вспоминаем Москву, родных. Ты, Неллочка, спрашиваешь, как я провожу время. Утром встаю, затапливаю печку и иду в школу. Прихожу в три–полчетвертого дня, делаю уроки, занимаюсь кое-чем по хозяйству. Ложимся спать, как я тебе уже писал, в 9–10 часов. Жизнь здесь очень скучная, тоскливая и ужасно однообразная» (20.04.42. Толя – Нелле).
«У нас произошли некоторые перемены: я стал работать в колхозе. Работаем весь день, с обеденным перерывом. Обедаем за колхозный счет. К обеду дают 400 гр хлеба и 0,25 л молока. Работаю на молотилке. Это очень пыльная работа, но зато веселая, быстрая, а пыль можно снять» (27.08.42. Толя – Сарре). За работу Толя получал трудодни. С наступлением зимы работа закончилась.
Собственно, именно здесь впервые война ударила по Толе всерьез. Нет родителей, нет друзей, городской мальчишка заброшен в незнакомую сельскую жизнь. И хотя жалоб практически нет, мать чувствовала в письмах огромную тоску.
«От Толика за эти 3 месяца получила только 2 письма… Письма его уже письма взрослого человека, и трудно мне перестроиться и убедить себя, что таким, как я его оставила маленьким мальчиком, – таким его я уже не увижу. Жаль, но ничего не поделаешь. Жизнь беспощадна. В то же время меня радует, что он вырос честным, хорошим парнем, работящим. Если бы вы читали, сколько любви и ласки в его письмах и в то же время большой грусти и тоски. Без слез (а ведь я не из плаксивых) – трудно читать его письма, и много дней проходит, пока я прихожу в норму» (3.09.42. Сарра – Нелле).
«Я получаю от Толи письма… Какие это письма! Я не могу спокойно их читать. Они всегда меня будоражат, но я хочу, чтобы он именно так и продолжал писать… Ни слова жалобы на свою безусловно трудную маленькую жизнь. Ни слова упрека, но сквозь юмор его слов вся его жизнь как на ладони передо мной. Его душа – это душа хорошего, честного советского мальчика, прошедшего через большую, тяжелую (хотя и не такую длинную) дорогу – проблема заработка “добывать себе хлеб на жизнь” и, несмотря на близость Зои, – все же большое и тяжелое одиночество. Главное – много философии и слишком много анализа всего окружающего для такого, еще не вполне сформировавшегося маленького человека… сколько нужно мыслей, чтобы прийти к выводу: “Теперь я прекрасно понимаю, что войти в жизнь так, как я думал раньше, нельзя – а потому становится грустно”» (7.02.43. Сарра – Нелле).
Москва 1943–1947
Весной 1943 года Рубашевы привезли Толю в Москву.
«Можешь меня поздравить. Наконец-то я прочно устроился. Теперь я ученик электромонтера. Вот уже неделя, как я работаю на большом авиационном заводе. Правда, на территории завода я не бываю, т.к. наш цех считается ремонтным. Работаю я шесть часов. С восьми до трех с обеденным перерывом. Встаю я в шесть часов и полседьмого выхожу. Потому что ехать мне страшно далеко. На заводе я получаю рабочую карточку и там же при заводе обедаю. Сколько буду получать денег, я пока не знаю, т.к. это зависит от работы. На нашей квартире я был два раза, потому что все нет времени. В комнате холодно, темно, неуютно и стоит страшный разгром. Да и вообще весь наш двор производит угнетающее впечатление» (17.03.43. Толя – Сарре).
Вернемся к событиям войны. Как я уже говорил, никто из моих прямых предков на войне не погиб, но тяжело было всем. Общину крымских греков в селе Кирки в 1944 году «освободили от фашистов» и выселили на Урал. Моя бабка Елена Константиновна (сестра Ивана Константиновича) вспоминает, что все произошло за час: пришли и забрали в чем были. «Так я попала на Урал в туфлях на снег».
Письма из Акмолинска
Чтобы представить себе атмосферу, в которой жил Толя, надо описать и влияние на него ГУЛАГа. Надо понять, каким представлялся ему этот мир. Основную информацию он должен был черпать из писем матери.
В целом положение С.Я.Наумовой в лагере было хорошим: она была нормировщицей. Как я выяснил, она входила в группу заключенных, прибывших в лагерь первыми, и в дальнейшем администрация опиралась на них. Кроме того, А.И.Солженицын пишет, что режим казахстанских лагерей был значительно более мягким, чем на Севере и в Сибири.
Мать спокойно получала посылки, ей можно было отправлять деньги (и они доходили регулярно), и она могла что-то покупать. Более того, одно время она сама пыталась посылать деньги в Москву, правда, конечно, символические.
Вот интересное упоминание о характере посылок, по нему можно составить представление о том, в чем нуждалась мать: «Никаких шоколадов и деликатесов… Если сможете понемногу собрать и засушить черные сухари (из хлеба) и сахару немного (если сможете достать), чеснок, из продуктов все. Из лекарств – камфару (для сердца), пирамидон, затем прошу ваты, зубной порошок, мыло (если не трудно достать) и, Миррочка, пришли 2–3 метра марли… Очень жалею, что в лучшие времена не просила у вас белья. У меня одна осталась рубашка и то рваная, если есть какой-нибудь совсем простой материал, даже старый – буду очень рада. Затем очень нуждаюсь – спички. Перья, карандаши простые и химические» (7.12.42. Сарра – Толе).
В письме от 7.02.43 Сарра пишет: «Я сейчас получила на 2 недели отпуск. Отдыхаю, чтобы с новыми силами вернуться к работе».
Тем не менее, любая болезнь грозила смертельной опасностью: нет лекарств, нет врачей. Зимой и весной огромную угрозу представляли бураны.
Особая тема – освобождение. Формально срок кончался в 1946 году. (5.03.45. Сарра – Толе): «Осталось 9,5 месяцев и, может быть, увидимся, хотя, возможно, что придется остаться в Казахстане на роли свободной гражданки» – то есть особой надежды на освобождение нет.
«Может быть, к тому времени вернется Ефим или Миша и их личное содействие дало бы самые лучшие результаты – ведь они были бы вернувшиеся с фронта. Многие вернувшиеся с фронта в этом отношении уже сделали много для своих братьев и сестер. Хочется надеяться на лучшее – иначе трудно сохранить выдержку и спокойствие, но на сегодняшний день – не хочу скрывать от вас – перспективы не блестящие» (10.07.45. Сарра – Толе).
Еще через четыре месяца: «О моей дальнейшей судьбе ничего определенного не могу сказать и сейчас. Пока те, кто имеет таких, как Ефим, Миша и Саша (если бы все они были живы – не могу и не хочу смириться с мыслью, что их нет, – еще ведь неизвестно где они), – имеют шанс на лучший исход, а что будет без этого, не знаю. Пока ориентируюсь на жизнь в этом же районе» (4.11.45. Сарра – Толе).
«Все же теперь не удастся отсюда выбраться. На 99 процентов мы все остаемся еще здесь. Уезжают лишь совсем полные инвалиды и те, за кого хлопочут родные, имеющие заслуги, ну и вы сможете хлопотать уже сейчас – чтобы мне разрешили приехать поближе к вам».
Тем не менее в конце 1946 года мать Толи и Неллы была уже на свободе.
В целом следует признать, что заключенной № 257387 Сарре Яковлевне Наумовой повезло: во-первых, она осталась жива, во-вторых, она отбывала срок в относительно благоприятных условиях, в-третьих, она освободилась почти вовремя.
Когда я спросил деда о том, почему он почти не пишет в своих письмах к матери о войне, как будто не замечает ее, он ответил: «А ты сейчас много думаешь и замечаешь, что происходит в Чечне?» Действительно ли дело только в возрасте? У меня сложилось несколько иное впечатление. Мать Толи и Неллы, как и отец, пройдя революцию, ощущали себя субъектами жизни, не отделяли себя от страны. Молодое поколение могло чувствовать все иначе. Снова и снова я возвращаюсь поэтому к поразительному описанию Дня победы в лагере НКВД:
«Пишу вам в день величайшего праздника Победы! После 7,5 лет это наш первый и настоящий радостный день… Радио разбудило людей (где было радио) в 5 часов утра (по московскому времени в 2 часа ночи) и сообщило о важном сообщении – все повскакали со своих мест, кто в чем был и сгрудились у радио выслушать сообщение о полной капитуляции немцев и прекращении войны – как наш поселок пришел в невиданное волнение – бежали раздетые кто в чем и будили с криком всех в остальных общежитиях, где нет радио. Прибежали к нам – поднялся невообразимый шум, я вскочила. Набросила на себя первую попавшуюся одежду и побежала к радио. В это время по поселку бегали женщины от дома к дому. Кричали, целовались все. Я даже не помню бесконечного количества поцелуев, которым я была награждена и сама дарила. За семь с половиной лет я перецеловалась столько, сколько, наверное, за всю мою жизнь не целовалась и в счастье, и в радости, даже с мужчинами. Это был первый день за всю нашу долгую разлуку, когда я забыла все горести и страдания. Правда, где-то там далеко копошилась горечь настоящего моего положения, радость, омрачаемая мыслями о тех, кто не может полноправно и гордо отметить, мыслями о тех наших родных, которые погибли в этой войне (как Давид)18 и тех, кто пропал без вести. Где они? Живы ли и будут ли с нами, вернутся с этой войны победителями или… Но сегодня не хочется думать о тяжелом, хочется думать только об одной радости – победе над проклятыми фашистами и конце войны. Так вот с 5-ти часов утра я тоже со всеми бегала от дома к дому, от мастерских к мастерским – в первый раз оделась с удовольствием в самое лучшее, что у меня осталось домашнего. Все что у кого было из посылок, из мизерных запасов – все друзья группами собирали в коммуну и отмечали совместными обедами и ужинами. У всех такие радостные, счастливые лица! А сейчас я вернулась с детского праздника. Наш детский сад тоже отметил этот день. По поселку играет гармонь, молодежь танцует. Все обстоит так, словно мы не здесь, а там, с вами».
Эти последние слова очень характерны. Она действительно ощущала (хотела ощущать?) себя частью огромной страны и огромного дела.
Историки пишут о смене, происходившей в настроениях советских людей. Революционный пафос уходил, а на смену шли политическая индифферентность и большая сосредоточенность на профессиональном результате. В семье Наумовых эта смена настроений совпала со сменой поколений. Родители сформировались в годы революции и, работая в разведке, по сути, продолжали свою борьбу. Дети были настроены иначе. В центре их интересов были прежде всего учеба и семья.
После войны
В 1945 году еще до окончания войны арестовали моего дедушку Панаиотиди Ивана Константиновича. Что было причиной, сказать сложно. Возможно, просочилась информация про плен (как можно догадаться, дедушка не говорил о нем), возможно, принадлежность к общине крымских греков. Так или иначе, он оказался на шахтах под Воркутой. Про лагерь вспоминает крайне неохотно и, прочитав «Архипелаг ГУЛАГ» А.И.Солженицына, сказал: «Он не написал и половины, и десятой доли о том, что там было по-настоящему. Возможно, это и нельзя написать». Тем не менее некоторые воспоминания мне удалось получить. Так, он рассказал о легендарной попытке побега с Сивой Маски в 1948 году19 и почти так же, как А.И.Солженицын. А вот другое событие – восстание на воркутинских шахтах в июне 1953 года – он видел сам и описывает совершенно иначе. Мой дедушка убежден, что это была провокация, организованная офицерами МВД, чтобы доказать необходимость сохранения лагерей: «Из Казахстана привезли несколько эшелонов бандеровцев20 , чтобы они все устроили. Заключенные знали, что это провокация, – об этом между собой много говорили».
Тихий разговор
Переписка Толи Наумова и матери дает материал о мыслях и настроениях молодежи того времени. Письма Толи матери – удивительный документ, рассказывающий именно об этом. Вспомним его слова матери в 1942 году: «Теперь я прекрасно понимаю, что войти в жизнь так, как я думал раньше, нельзя – а потому становится грустно».
А как войти в жизнь? «Понять может только мать, и я это вполне осознал только лет 4–5 назад, хотя инстинктивно почувствовал раньше».
Именно письма матери дали возможность поговорить открыто: «…повторяю, без твоей помощи я никак не обойдусь, а ведь откровенным с тобой мне очень хочется быть, так как я сейчас нуждаюсь не только в матери, но и в настоящем друге, которому я мог бы поверить все свои тайны, излить, как говорят, свою душу. Я сам себя еще достаточно не понял, но мне кажется, что хотя я внешне и достаточно весел, откровенен и прост, я свои личные переживания, чувства, скрываю в себе, это меня порой очень гнетет, т.к. бывают моменты, когда мне очень хочется с кем-нибудь поделиться самым сокровенным, тем, чем можно поделиться только с матерью. Вроде того, как малыши прячут голову в коленях матери и сквозь слезы поверяют им все свои детские огорчения».
Кроме того, он делится с матерью впечатлением о прочитанном: «Вот, например, мой репертуар за последнее время: “Западня” – Золя; “Пылающий остров” – Казанцева (довольно голая фантазия); “Хлеб” – Толстой; “Еврей Зюс” Фейхтвангера; “Оборона Ретрограда”; “Граф Монтекристо” Дюма; “Записки следователя” Шейнина; “Поднятая целина” Шолохова и “Разведка и контрразведка”. Объясняется это тем, что источник, где я добываю книги, довольно истощился. Выбрать и достать хорошую книгу, ту, которую хочешь, можно только в Ленинской библиотеке, но там ведь только читальный зал, а я люблю читать в домашней обстановке».
Однако главное, что волнует Толю, это вопрос о судьбе семьи. Юноша категорически не верит в смерть отца.
«Я каждый день думаю о тебе, о папе, строю различные версии наших встреч, реальных и не реальных (просто мечты). Вот, например, иду по улице, и вдруг какой-то мужчина спрашивает меня, как пройти на 2-ой Хвостов п. Дом 10 кв. 45, и оказывается, что это папка! Хотя и понимаешь, что это только глупые мечты, но иногда и помечтать бывает приятно…
Опять видел перед глазами своего папу. Как хочется его увидеть, и так же, как я знаю, что скоро увижу мою дорогую мамочку, так же крепко я верю, что пройдет год-два21 , и мы вместе увидимся с папой. Надо только, как ты говоришь, запастись терпением и использовать то, что мы имеем, т.е. почту».
Надо признать, что и мать не опровергает его мечты: «Ведь я ни на минуту не разрешила себе упрекнуть в чем-либо нашего Наума (да не в чем его упрекать), его образ я спрятала глубоко-глубоко в памяти и очень редко разрешаю себе думать о нем, иначе было бы еще тяжелее, но все же в последнее время он мне стал часто сниться. Ему, конечно, тяжелее, чем нам, ведь мы все же имеем связь друг с другом» (4.11.45).
В это же время Толя пишет о себе: «Еще ты меня просила присылать тебе газеты. Все, что можно, сделаю. Сам я тоже очень интересуюсь политикой. Ведь какое сейчас интересное, напряженное международное положение. Я стараюсь не пропускать ни одной газеты, с гордостью могу сказать, что в международном положении я разбираюсь хорошо и на политические темы могу спорить без конца, что называется, “лезу в бутылку” – ну что же, у каждого свои странности».
Это сообщение, естественно, очень испугало его мать. На протяжении восьми лет она всячески гнала от себя мысли о том, что случилось в 1937-м, и спасение она искала в работе. «Работаю много, и это для меня лучше – день полностью заполнен, некогда думать, некогда ныть даже в самой себе, и несмотря на усталость – это мое спасение» (8.12.44. Сарра – Толе).
«Неллочка, только не унывать и вообще советую много не философствовать, проще смотреть на жизнь, не усложнять все» (4.03.42).
Отчасти эта установка передавалась и Толе. О своих сомнениях в письмах к матери он писал: «Но вообще это, конечно, меланхолия и просто-напросто жалкая попытка заняться глубоким самоанализом, у меня это никогда почти не выходит по этому я стараюсь смотреть на все гораздо проще и свободнее (выделено мной. – А.Н.), и надо признать, у меня это почти всегда получается» (24.02.46).
Однако одно дело дружба, любовь, книги, а другое – политика. Теперь «проклятые вопросы» могли погубить сына. Его горячность была тем более опасна в связи с тем, что в письмах сына явно звучала гордость за репрессированного отца и уверенность в его невиновности.
Сарра Наумова пытается всячески предостеречь сына: «Основной вопрос, о котором я хочу с тобой поговорить, это о любимых тобою вопросах, о которых ты пишешь, что хорошо в них разбираешься, любишь поспорить и даже “лезешь в бутылку”. Толенька, конечно, мне очень трудно в письме свободно и понятно изложить свою точку зрения по такому щекотливому вопросу. Во-первых, я очень рада, что ты по-прежнему всесторонне интересуешься жизнью, что ты общественный мальчик – ведь ты так в этом вопросе напоминаешь мне папу в далекой молодости… он так же любил и поспорить и считал, что его точка зрения правильная, я убеждена, что и ты мой мальчик имеешь вполне здоровые взгляды на жизнь и по данному вопросу, я очень рада, что ты много читаешь и интересуешься, что ты не пассивен, но не забудь, что тебе все же только семнадцать лет… Я знаю, что ты умный и понятливый мальчик, что ты поймешь меня и ты прекрасно знаешь свою маму, никогда не учившую тебя плохому, ты должен понять, что, пройдя такую жизнь как я… Я хочу тебя предупредить, вернее, пока просить тебя (очень просить) – “не лезь в бутылку” и вообще впитывать в себя все, прислушиваться к мнению других, читать много, анализировать все вопросы, но пока мы с тобой не увидимся – пока воздержаться “лезть в бутылку”… Я хочу услышать тебя своими ушами, познакомиться с глазу на глаз с тобой, а пока возьми себя в руки и воздерживайся от всяких споров».
Сейчас мой дедушка Толя практически не помнит ничего из того, что так встревожило его мать. Но, вероятно, риск был, и немалый. Начиналась «холодная война». Жданов выступил со своей известной критикой журналов «Звезда» и «Ленинград». Тогда же было раскручено «ленинградское дело». На пороге было дело Еврейского антифашистского комитета.
После 1956 года
Иосиф Яхнис после войны служил в воинских частях в основном на Дальнем Востоке в звании подполковника на должности начальника штаба дивизии. В 1956 году он умер. После его смерти жена и дочь Алла перебрались в Москву. Алла стала студенткой Московского областного педагогического института на факультете иностранных языков. После его окончания пошла работать преподавателем английского языка в Московский энергетический институт. В Москве в 1958 году она познакомилась со своим будущим мужем Анатолием Наумовым. Интересно, что в 1947–1949-м он тоже служил солдатом на Дальнем Востоке (именно тогда, когда она там была в военном городке), но судьба их не свела. Анатолий Наумович Наумов закончил Московский энергетический институт и хотел работать в авиастроении, но его не брали (сын «врага народа»). По счастью, в 1956 году реабилитировали его отца и мать. Документ о реабилитации Наумовой С.Я. вручал член ЦК КПСС, и она сразу попросила за сына. Партийный начальник обещал все решить и слово сдержал. Анатолия взяли в конструкторское бюро А.С.Яковлева, где он проработал до самой пенсии: делал «Яки». В первую очередь это тренировочная машина Як-18Т и пассажирские Як-40 и Як-42. О них есть много материалов в книге генерального конструктора А.С.Яковлева «Цель жизни».
20 декабря 1961 года у Наумова Н.А. родился сын Леонид (мой отец), а еще через восемь лет, в 1969-м, другой сын – Владимир. В 1982 году умерла Сарра Яковлевна Наумова.
Другой мой дедушка, Иван Константинович Панаиотиди, после освобождения (и реабилитации) продолжал жить на Севере в поселке Горняк под Воркутой (рядом с Сивой Маской). Именно на Сивой Маске он встретил свою будущую жену Валентину Свиридову. Это была дочь Ивана Ивановича Свиридова, также сосланного под Воркуту. В 1956 году ему разрешили пригласить свою семью, и Валентина Ивановна, взяв его мать-старуху, двоих дочерей, поехала на край света к своему мужу.
Панаиотиди И.К. работал главным бухгалтером местного торгового центра. Работал много и хорошо и получил звание почетного гражданина г.Воркуты. Его жена Валентина Ивановна была начальником почты в поселке. У них родились две дочери – в 1962 году Галина (моя мать) и в 1965 году – Александра.
В 1983 году моя мать Галина Панаиотиди, студентка Кировского политехнического института, встретила моего отца Леонида Наумова, и через год они поженились, а еще через год родился я. В 1990-м у меня появилась сестра Маша (страшно вредная).
В моем сочинении ничего не сказано о моих родителях. Это потому, что они еще не стали историей. Я считаю, что история становится историей только по прошествии некоторого времени. Надеюсь, что в будущем мои внуки напишут и обо мне.
Закончить свое сочинение я бы хотел несколькими рассуждениями. Во-первых, вопрос философский: когда появилась моя семья. Формально – понятно: 30 сентября 1984 года, когда поженились мои родители Леонид Анатольевич Наумов и Галина Ивановна Панаиотиди. Но это моя семья в узком смысле. Более широко моя семья – это семья Наумовых. Появилась она весной 1920 года в Симферополе, когда Наум Абрамович Глатман встретил Сарру Клейман. Но внутренне я чувствую себя наследником не только семьи Наумовых, но и потомком Панаиотиди, Яхнисов, Свиридовых, тем более что никого из первых двух фамилий практически и не осталось. Где же и когда появилась эта моя «большая семья»? Я думаю, что все-таки в Крыму в 1917–1920 годах, когда Екатерина Панаиотиди чудом через войну и революцию добралась до своего мужа и когда в большевистском подполье появилась семья Наумовых. Странно, что мои прадедушки тогда не встретились, ведь их отделяли зачастую несколько километров. Если бы я был писателем, я бы обязательно придумал эту их встречу.
Тяжелые испытания выпали на долю моей семьи в 1937–1953 годах. Во-первых, репрессии, которые, естественно, ударили и по женам, и по детям. Во-вторых, война – сражались мой прадед Иосиф Яхнис и мой дед Иван Панаиотиди (его потом тоже ждал лагерь). И тем не менее семья выстояла. Мужчины на фронте защитили семью, а женщины сберегли – Сарра Наумова, сохранившая, несмотря на лагерную разлуку, связь со своими детьми, Галина Яхнис, воспитавшая дочь в эвакуации, Александра Никаноровна Свиридова, всюду следовавшая за своим мужем через войну и лагеря.
Что же представляет собой моя семья? Она возникла при смешении русских, евреев и греков. Среди моих предков не было никого дворянского происхождения – только крестьяне и торговцы царской России. После революции два моих прадеда стали военными, два других остались в деревне. Из четырех прадедушек – репрессировано было три (Наум Наумов расстрелян, Иван Свиридов – лагерь под Воркутой, Константин Панаиотиди – высылка в Сибирь, из двух дедушек – один (Иван Панаиотиди), тем не менее они остались преданы своей стране…
Но кроме того, мне хотелось увидеть, что происходило внутри людей, с детьми и их родителями. Сарра Наумова пишет дочери: «Знаешь ли ты, что такое угрызения совести, – знаю, что нет – ты это читала в книгах и, наверное, не верила этому. А вот здесь (влагере. – А.Н.) этот кошмар меня часто преследовал, и это тяжелое чувство… Все свои молодые годы я отдала тому, чтобы быть лишенной естественной потребности каждой женщины – быть подлинной матерью – и не смогла совместить работу, честную и трудную, с материнством. А ведь все это отразилось на детях… И здесь эти годы я болезненно чувствовала потребность в материнском чувстве – как будто мне хотелось наверстать столько потерянных лет тогда и теперь. Я часто по ночам разговариваю с тобой и Толей – и отсюда издалека хотела передать вам – моим детям – всю накопившуюся ласку и любовь. И прошу тебя простить меня за те годы, когда я была тебе плохой матерью. Но в одном ты можешь быть уверена – я всегда тебя и Толю крепко любила».
Мне кажется, что один из главных выводов, который мать сделала и пыталась донести до своих детей, был именно этот: «Я хочу, чтобы все наши дети чувствовали себя связанными вместе родственной близостью. Ведь практика нашей жизни показала, что родная связь, близость родных людей во всякое тяжелое время – облегчает жизнь, дает бодрость и энергию» (12.05.41).