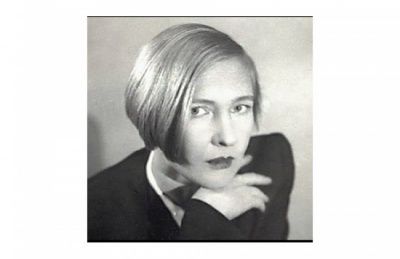Ирина Кобак «Мы за ценой не постоим» (Великая Отечественная война глазами гвардии ефрейтора)»
Рубрика Россия советская
г.Санкт-Петербург,
школа № 318,
11-й класс
Научный руководитель
Т.Г.Рейхман
Третья премия
История нашей страны ставит перед нами множество вопросов. Один из таких вопросов – о цене победы над фашизмом. Мы не знаем о Великой Отечественной войне всего и никогда не узнаем, потому что вся война – это, помимо ее общей структуры, хода и значения, судьба каждого человека, пережившего (или не пережившего) ее. История каждой такой жизни добавляет что-то в наши знания о войне.
В литературе мы можем найти множество примеров героизма советских солдат и гражданского населения, подтверждающих, что война была народной, священной, что народ мужественно сражался и заслуженно победил. Это, безусловно, так. Но наряду с проявлениями самоотверженности и героизма борющегося с фашистами народа имели место и трусость, и предательство, и равнодушие, и жестокость… Война – это экстремальная ситуация, в которой необычайно ярко проявляются черты характера, как положительные, так и отрицательные. В то же время война по сути своей – это массовое убийство. Может ли в этих условиях сохраниться, не снизиться нравственный уровень народа в целом? Может ли человек остаться человеком, не переступить черту, за которой начинаются аморальность и предательство? Не всегда и не всем это удавалось. В рассказе Никиты Михайловича Гернгросса – собеседника, выбранного фактически наугад, – я нашла яркие тому подтверждения. Однако речь пойдет не только о снижении нравственной планки конкретных людей. Некоторые факты из рассказа Никиты Михайловича наталкивают на мысль о бесчеловечности и аморальности всей системы и того строя, который называл себя лучшим, и показывают, как это проявилось в экстремальных условиях войны.
Знакомство с Н.М.Гернгроссом
Его военную судьбу нельзя назвать типичной, но до войны она была похожа на судьбы сотен тысяч подростков, которых объединяло одно: у них были репрессированы родители. Таким образом, его биография с точки зрения «компетентных органов» оказалась «запятнанной» еще с подросткового возраста. В конечном итоге именно этот факт сыграл огромную, если не сказать определяющую, роль в военной судьбе Никиты Михайловича и, возможно, как это ни парадоксально, сохранил ему жизнь. Впрочем, это будет видно из его рассказа:
«Для каждого участника война имела свое лицо, которое ни в одном случае, наверное, не было одинаковым. Поэтому каждое воспоминание является крупинкой, дополняющей большой общий памятник. Следует также помнить, что кругозор рядового солдата довольно узок, он многого не знает и потому не в состоянии построить стройную картину событий. Кроме того, рядовой солдат мог быть свидетелем таких фактов, которые до последнего времени ни в какой литературе не могли быть упомянуты. Во время войны я вел “дневник солдата”, но фронтовая обстановка не оставляла возможности подробного описания событий, поэтому дневник постепенно приобрел форму краткого перечисления событий».
Никита Михайлович Гернгросс родился в мае 1924 года в Ленинграде. Он был школьником-подростком, когда в начале декабря 1937 года арестовали его отца, Михаила Федоровича Гернгросса, работавшего экономистом на заводе «Красная заря», а его с матерью, Валентиной Николаевной, выслали в Оренбургскую область, в районный центр Каширин, который вскоре переименовали в Октябрьск. В 1941 году он окончил школу с отличием, 14 июня был выпускной вечер…
Снова обращаюсь к «Воспоминаниям»:
«Жизнь шла своим чередом. В июне 1941 года я окончил 10-й класс с аттестатом отличника. 14 июня был выпускной вечер, 22-го началась война, 28 июня арестовали мою мать. Ее взяли с работы. Детство кончилось».
Работа в колхозе
У Никиты Михайловича был «белый билет» – освобождение от службы в армии – из-за сильной близорукости, поэтому в отличие от большинства одноклассников, получивших повестки в первые дни войны, призыву в действующую армию он не подлежал.
Вот что сам Никита Михайлович рассказывал о своей жизни в начале войны:
«Когда мать арестовали, я, городской мальчик, несколько растерялся, потому что нигде не работал и ни к чему не был приспособлен. А в это время районные власти объявили набор старшеклассников и выпускников на уборку урожая сорок первого года, а урожай был очень большой. Я тоже подключился к этому и поехал в колхоз «Новый Саргул». Такой небольшой колхоз, дворов на пятнадцать. Месяц я там проработал. А когда там узнали о моем таком положении неопределенном, мне предложили там остаться и работать. Я вернулся в Октябрьск, уладил свои дела, а именно: землянку продал, козу продал… В общем, на вырученные деньги купил необходимую одежду и переехал в колхоз. Работа там была самая настоящая: весной приходилось пахать, бороновать, сеять – это была работа на двух лошадях; летом косили пшеницу жнейкой – “лобогрейкой” – самая трудная из полевых работ, осенью возили зерно, а всю зиму я ездил за сеном или соломой для корма скота».
Причина того, что городскому, вначале неумелому юноше предложили остаться в колхозе, ясна: нехватка мужчин.
Война была где-то далеко, информация о том, что происходит на фронте, поступала скудная и противоречивая. Колхозники узнавали о ходе военных действий в основном из уст солдат, возвращавшихся после ранения.
Никита Михайлович проработал в колхозе довольно долго – до марта 1943 года.
Годен к нестроевой
Никита Михайлович продолжает свой рассказ.
«…Видимо, уже поджало с людьми страну. И мне 3 марта 1943 года пришла повестка. Привезли нас в Оренбург, Чкалов он тогда назывался. Всю команду новобранцев держали в роще за Уралом, где стояли такие домики летнего назначения. Типа павильонов для развлечений, что-то такое, летнее. А был март месяц, и, в общем, было еще не жарко… Мы прожили там месяц с небольшим, и строили мы там дамбу для защиты железнодорожного моста через Урал. Работа была приличная: таскать камни, носилки с землей, бревна, шпалы. У всех у нас были свои, как тогда говорили, “сидоры”. “Сидор” – это мешок с запасом продовольствия. Запасы эти постепенно кончились, что, в общем-то, мы уже стали чувствовать. Вот в это время нас собрали всех в кучу, загрузили в эшелон и отправили. Этот эшелон мне запомнился вот чем. Нас кормили там не ахти. Нам давали буханку хлеба на два дня, ну и там сахару немного, селедки кусочек. Буханку мы съедали, конечно, в тот же день, ну, молодые, прожорливые… А потом – зубы на полку. И вот что мы делали. Время было – конец апреля, кругом бушевала весна и сажали огороды. Эшелон останавливается на станции, мы выскакиваем и, человек пять-шесть бежим к ближайшим домам наниматься копать огород. Подбегаем к какому-нибудь хозяину: “Давайте, мы беремся вскопать огород, а вы нам два ведра картошки”. Мы копаем и смотрим на эшелон: уходит или не уходит? Потому что если уйдет, то мы можем оказаться дезертирами и получить по полной катушке по трибуналу. Это была бешеная работа. Я не помню, чтобы я когда-нибудь еще так трудился. Иногда нам удавалось получить пару ведер и счастливыми бежать к своей теплушке, печь картошку или варить ее. Но бывали случаи, когда приходилось на половине дела все бросать и бежать к эшелону, который начал двигаться. Привезли нас в Орловскую область, на станцию Русский Брод. Это был конец апреля – начало мая…»
Здесь он получил «боевое крещение». Вот как описывает Никита Михайлович в «Воспоминаниях» первую бомбежку:
«Наконец эшелон остановился у семафора станции Русский Брод, в Орловской области, и почти сразу же раздалось: “Воздух!” Народ стал разбегаться в разные стороны, когда на станции загремели взрывы и пулеметные очереди. Немцы бомбили станцию. Наш эшелон эта участь миновала, но когда мы пришли на станцию, картина для новобранца представилась ужасной. Поездка кончилась, дальше пошли пешком. Шли весь день и всю ночь, делая привалы по пять минут каждый час. Утром дошли до места, многие попадали на траву и сразу же заснули… К 12 часам дошли до места назначения – село Моховое. Идти было, конечно, очень тяжело, особенно ночью, мы засыпали на ходу, спотыкались о впереди идущего… Ну, это детали, мелочи. Все подвергались трудностям войны…
А там нас разбили на взводы, мы получили инструмент – на каждого простую и совковую лопаты – и отправились копать окопы. Обмундирования нам не выдали, кроме ботинок на деревянной подошве (чтобы лучше копали)…»
На Орловско-Курской дуге
Так сложилось, что новобранец Никита Гернгросс из глубокого тыла попал на Орловско-Курскую дугу, образовавшуюся в ходе зимне-весеннего наступления Красной Армии, на тот участок, где планировалось организовать наступление и, развив успех, завершить коренной перелом в ходе войны.
Рассказывает Никита Михайлович:
«Норма была свирепая: шесть метров траншеи, глубина метр семьдесят, внизу – семьдесят, наверху – девяносто. Вот весь этот объем земли надо было вынуть, распланировать, сделать бруствер и замаскировать дерном. Это была трудновыполнимая работа, единицы справлялись, в основном те, кто вышел из заключения и работал на земляных работах. Таким образом, мы готовили второй и третий эшелоны обороны на Орловско-Курской дуге. Надо сказать, что этот наш запасной пояс обороны не пригодился. Гитлер перешел в наступление 5 июля и продвинулся километров на… не знаю, то ли двенадцать, то ли больше, но до нашего рубежа не дошел. А 12 июля наши уже перешли в наступление и оставили эти рубежи далеко позади.
Нам тогда грозили: не выполнишь норму – не получишь ужин. Я, правда, не знаю такого, чтобы кто-то не получал ужина. Я лично не выполнял норму. Но командир взвода видел, что я такой городской, хиленький, но стараюсь, поэтому он меня не лишал. Но там был один мужик с Западной Украины. Вообще в этом стройотряде народ был такой: с Западной Украины, из Западной Белоруссии, из тюрьмы, такие, как я, дети “врагов народа” – вот такой был “сброд”. Так вот, там один мужик наотрез отказался работать. Категорично. Такой был среднего роста, крепкий, плотный, черная борода. Не знаю, кормили его, не кормили, сажали куда-нибудь, не сажали, но он ни разу не брал лопату. Это показывало, как к нам относятся на Западной Украине и в Западной Белоруссии».
Военно-пересыльные пункты
Никита Михайлович продолжает свой рассказ:
«Так вот, мы весь июнь копали окопы, готовили запасную линию обороны перед наступлением Гитлера. Да, надо сказать, кормежка была отвратительная, был “второй паек”. Второй паек – это 600 граммов сухарей, что ли, на два дня, я уж не помню. Ну и приварок был там, но очень-очень бедный. А работа была, как сами видите, изнурительная. Некоторые начали опухать, ходили просить помощи у населения, но местные жители жили бедно и были не в состоянии нам помочь. Я тоже опухал, искал какую-то траву, ел ее… Кончилось тем, что у меня обнаружилась трофическая язва на ноге, копать я не смог, потом кровотечение началось. Меня отправили в медсанбат.
Так вот, отправили меня в полевой госпиталь в г.Дубки. Меня – на стол, врач посмотрел, ногу в гипс… А попал я в госпиталь, где все легко ранены: с ногой, с рукой, некоторые с костылями, но не тяжело ранены. В середине июля меня вместе с группой легко раненных на машине отправили в г.Елец в эвакогоспиталь, затем в санитарном поезде – в Рязань и далее – в Казань. В Казани пролежал три месяца, и вот в середине октября наступил интересный момент. Надо выписываться, идти на комиссию. А комиссия смотрит как: “Руки-ноги целы? Ну-ка пройдись!” Прошелся. “Ну-ка помаши руками! Согни руку! Годен к строевой”. А у меня же близорукость, у меня же “белый билет”! Был, пока я его не сдал, когда меня в армию забирали. И мне написали: “Годен к строевой”. Стал я чуть ли не гвардейцем сразу…
После этого я попал на военно-пересыльный пункт в Горький. Там посмотрели – о, десять классов! Таких не очень много было, кстати. Всех моих одноклассников по десятому классу забрали буквально в первые дни. Послали меня в 62-й отдельный запасной радиополк, в Горьком же. Радиополк готовил радистов разных специальностей. А меня послали в роту, которая готовила радистов для радиостанций фронтового и армейского масштаба. Радиостанция так и называлась – РАФ (радиостанция армейская и фронтовая). Я с удовольствием учился там, жили нормально, как в запасном полку… Я там проучился почти до марта 1944 года и собирался, как и все остальные, сдавать экзамен на радиста 3-го класса. И вдруг меня вызывает замполит. Ну, сначала вопросы, дескать, кто по национальности да где жил… А потом был задан вопрос: “Где родители?” Я был мальчик, такой честный, ну и ответил: “Отец сидит, мать сидит”. Через пару дней меня коленкой оттуда вышибли. Это был конец февраля».
После экзамена радисты-новички получали направление на службу в штабах армий. Сведения, передаваемые и принимаемые радистами, как правило, секретные и совершенно секретные, составляли военную тайну, так что неудивительно, что особый отдел тщательно проверял всех выпускников этого радиополка. Человек со звучащей по-немецки фамилией да еще с репрессированными родителями не мог не вызвать подозрений.
«И я опять попал на тот же самый военно-пересыльный пункт в Горьком. Фамилия заметная: не Иванов, не Петров – запоминающаяся, Гернгросс, таких больше не было. Они посмотрели и решили отправить меня на чугунолитейный завод, под Муромом».
Можно предположить, что чиновники из ВПП, отправляя Никиту Михайловича на чугунолитейный завод, решили перестраховаться. Если контрразведка «СМЕРШ» решила, что этого человека нельзя использовать на работе, связанной с содержащими военную тайну сведениями, то самое безопасное – послать его на работу, гарантированно не связанную ни с какими секретами, – наверное, таков был ход мысли этих чиновников.
«Приехал я на завод в середине марта, поселился в общежитии, стал работать стропалем. Завод выпускал такие здоровые, как шпалы, слитки чугуна, их надо было грузить на платформы, сгружать, перемещать. Я работал с краном. У крана были клещи, я эти клещи накладывал на болванку, поднимал ее, переносил, ставил. Но проработал я недолго, около месяца. Однажды ночью, в ночную смену (а работали мы двенадцать часов, потом двенадцать часов отдыхали), болванка упала мне на ногу, правда, не напрямую, перелома не было, но ушиб был сильный, и несколько дней в больнице я пролежал. И тут меня стала мучить мысль: чем на этом несчастном заводе получить инвалидность или еще что-нибудь, пусть лучше на фронте убьют или ранят. Когда надо было становиться на учет – на военный, кстати, учет, я все-таки военнообязанный числился, – я пришел к райвоенкому, говорю, что хочу в армию. Он так обрадовался (людей с него требуют, людей нет) и говорит: “О, давай! Куда хочешь: в пехоту, в артиллерию, в танковую часть?” Я говорю: “Куда хотите”. И я приехал в третий раз на военно-пересыльный пункт в Горький. Представляете, как чесали репы эти чиновники, куда меня теперь деть! То, что они придумали, было совершенно непредсказуемо. Они меня послали в Чехословацкую армию. Было это в апреле 1944 года».
О существовании Чехословацкой армии на территории СССР я впервые услышала от Никиты Михайловича. Факт этот интересен хотя бы тем, что в России это была уже не первая Чехословацкая армия. Первая армия (точнее, Чехословацкий корпус) была создана еще во времена Гражданской войны. Эта вторая армия создавалась в 1943 году по инициативе и под командованием Людвига Свободы.
Наверное, третье за полгода появление военнообязанного Гернгросса на этом ВПП привело чиновников в отчаяние и заставило их принять совершенно нелепое решение в отношении «ненадежного сына врага народа».
«Итак, в составе команды из трех чехов, настоящих чехов, по-чешски разговаривающих, ехал я, четвертый, – русский солдатик. Поехали мы в Бузулук, где находился штаб Чехословацкой армии. В штабе-то не дураки сидели. Они спрашивают: “Вы чех?” – “Нет”. – “Ваш отец чешский подданный?” – “Нет”. – “Мать чешская подданная?” – “Нет”. – “Так какого ж черта вас к нам прислали?” И отправили меня на русский военно-пересыльный пункт, но не в Горький, туда я уже, слава Богу, не попал, а попал в Тулу. Тула покрутила-покрутила и в конце концов определила меня в 42-й отдельный учебный танковый полк самоходной артиллерии, который стоял под Москвой (станция Костерево). В полку готовили экипажи самоходных установок СУ-76».
Начало строевой службы
«Я туда приехал примерно в мае 1944 года. Вы видите, я уже год болтался без толку. Приехал я туда, стал заниматься, и стали меня учить на наводчика. С моим-то зрением. Никто ж этого не знает, и никому дела нет. А самоходки эти СУ-76, с 76-миллиметровой пушкой, в народе назывались – “Прощай, Родина!”, а другое название – “Гроза Гитлеру, смерть экипажу”. Так их называли потому, что тонкая броня, сверху башня закрывалась брезентом, ходит на бензине. Представляете, сидит механик-водитель, слева – мотор на бензине, справа – бак с бензином. Горели они, как свечки, даже при попадании снаряда небольшого калибра. Так вот, проучился я там до августа… Начались учебные стрельбы. Смешно подумать: я – наводчик, выезжаю на огневую позицию, инструктор говорит: “Ищи мишень, стреляй”. Я ищу, ищу, ни черта не вижу. А там же время нормировано! Он потерял терпение, оттолкнул меня и говорит: “Подожди, я сам”. Стрелял сам. Теперь я думаю: каков бы был я, если бы все-таки был выпущен наводчиком, с моим зрением? Это верная смерть всему экипажу.
Сменился командир полка, появился новый. В своей “тронной” речи он сказал: “Я выведу полк в передовые, я выгоню всех пьяниц, прогульщиков и прочих подозрительных личностей”. В итоге стали пропускать через особый отдел весь состав полка. Приходит Иванов. У него спрашивают: “В оккупации был?” – “Не был”. – “В плену был?” – “Не был”. – “В тюрьме сидел?” – “Не сидел”. – “Иди”. Приходит Гернгросс. Ну как доходит до родителей, так все».
Уже не первый раз пришлось Никите Михайловичу отвечать представителям особого отдела на вопросы о родителях, и никогда такие разговоры не сулили ничего хорошего (вспомним, как окончилась его учеба на радиста). Казалось бы, война уравнивает всех, все объединены одной целью – победой. Однако из рассказа Никиты Михайловича мы видим, что уже не в первый (забегая вперед, можно сказать – и не в последний) раз его признают человеком «второго сорта», не заслуживающим доверия, не очень надежным.
Про нравственный уровень созданной Сталиным репрессивной системы сказано уже немало, и повторяться не буду. Отмечу лишь, как этот уровень проявился в условиях войны: человека унижают недоверием только потому, что у него немецкая фамилия (хотя он, как и его родители, всю жизнь прожил в Советском Союзе) и репрессированы родители (не имеет значения, что когда арестовали отца, ему не было еще пятнадцати лет).
«Меня и еще нескольких человек из этого полка отправили во Владимир, зачем – никто не знал, говорили, что в маршевую роту. Это был конец июля. Наконец в начале августа 1944 года я обрел окончательное пристанище: 354-й Гвардейский тяжелый самоходный артиллерийский полк резерва главного командования. С этого времени я начал воевать по-настоящему. Но это был уже 1944 год. Представляете? Полтора года меня мотали эти чиновники. Спасибо им, что они сохранили мне жизнь, может быть.
Так вот, в этом полку были тяжелые самоходки 122-миллиметровые, с толстой, хорошей броней, немцы их очень боялись. И я был определен туда в роту автоматчиков. Я пришел туда с командой в десять человек. Мы пришли, а командир там в отлучке. Нам говорят: “Подождите, вот некому вас записать в книгу, мы только что из-под Минска, у нас убили писаря роты автоматчиков”. Мы ждали-ждали, потом я говорю: “Давайте я запишу”. Взял книгу, записал всех как следует. А потом явился командир роты, посмотрел и говорит: “Будешь у меня писарем в роте”.
Стал я подавать строевые записки, планы учебы – в общем, бумажная работа. В штабе полка увидели, что аккуратный, почерк хороший, и забрали меня в штаб полка, на оперативную работу. В чем заключалась эта работа? Надо было клеить топографические карты в направлении предполагаемого нашего наступления для каждого командира батареи. А в полку – двадцать одна самоходка: четыре батареи по пять самоходок и одна командирская, значит, всех комбатов надо было снабдить картами, плюс начальника штаба и командира полка. Вот я и клеил эти карты. Потом обязанность была такая: когда полк перемещается, на новом месте я должен сделать вырезку из карты, срисовать и послать в штаб корпуса дислокацию полка. Мы подчинялись 1-му танковому гвардейскому корпусу, это наше было командование. Я печатать на машинке быстро научился. Ну и всякие солдатские дела, конечно, и прежде всего копать окопы на новом месте…
Мы стояли в Латвии (Радзивилишки), вдруг приказ: “Срочно!” По тревоге нас подняли. Мы тогда готовили наступление в Латвии, все было тихо, маскировка, никаких папирос, ни огня, ничего, никаких перемещений. Но немцы разнюхали об этом. И километрах в двадцати от нашего места дислокации они перешли в наступление. Два дня шли бои. Наш полк подбил тринадцать танков, и немцы успокоились, атаку мы отбили. Но они все-таки знали, что мы наступать собираемся».
Рассказ Никиты Михайловича – это точка зрения рядового, который знает лишь то, что происходит рядом с ним. А вот как об отражении атак под Добеле 18 сентября 1944 года пишет в своей книге «Дело всей жизни» маршал А.М.Василевский: «18-го я докладывал в Ставку: “На фронте 6-й Гвардейской армии Чистякова к юго-западу от Добеле противник с утра 17 сентября повел наступление в восточном направлении силами 5-й, 4-й танковых дивизий и моторизованной дивизии “Великая Германия”. Всего в бою принимало участие около 200 танков и самоходных орудий. До подхода к району действий с нашей стороны необходимых танковых и противотанковых средств противнику удалось вклиниться в нашу оборону от 4 до 5 км. Дальнейшее продвижение противника приостановлено. За день боя подбито и сожжено до 60 танков и самоходных орудий противника… С 10.00 18 сентября противник возобновил наступление. До 13.00 все его атаки отбиты”»[1]. Атака немцев под Добеле была отбита. Война продолжалась…
На самоходке
«Дальше шло уже по такому плану, которому наши научились у немцев: концентрация сил втихаря, сильнейшая артподготовка, пехота прорывает участок обороны – километра 3, 5, 7 шириной – и сразу в этот участок лавиной танки, танки, танки, самоходки, мотопехота… Так, как немцы с нами воевали вначале. Немцы, конечно, бежали здорово, потому что страшно боялись окружения, и как только мы зайдем чуть-чуть в тыл, сразу бежали.
В конце января 1945 года произошло изменение в моей судьбе. Дело в том, что как-то раз приезжает в штаб полка представитель особого отдела из корпуса, приходит в штаб. Спрашивает: “А это что у вас за солдатик?” – “Да вот, взяли на оперативную работу”. – “Ну ладно, пусть помогает, только пусть напишет автобиографию и заполнит анкету”.
Какие тогда были анкеты, сами знаете. Я написал, заполнил и через два дня приказ: на самоходку! А самоходка, к ней положено иметь отделение автоматчиков, пять человек (фактически было три, не больше). И эти пять человек должны быть к самоходке буквально цепями прикованы, ни на шаг от нее. Она идет в атаку – едем на броне позади башни. Она остановилась – мы на землю. И охранять ее днем и ночью, не допустить, чтобы ее забросали гранатами или подожгли фаустпатроном. Вот с этого момента я начал воевать по-настоящему, не при штабе.
Дневник я вел до тех пор, пока меня не посадили на самоходку. Там уже было не до дневников. Все это сохранилось в памяти как ночные марши, пожары, обстрелы, бомбежки. Помню, как мы наступали: войдешь в город – немцев нет, электричество горит, дома открыты, на столах теплый обед, бери, что хочешь… Наши, конечно, брали трофеи, кто мог. А что солдат возьмет? У него мешок вещевой за плечами и больше ничего. Танкистам строго-настрого запрещалось какие-нибудь трофеи брать на самоходку. Поэтому они в основном что делали: брали ящик коньяку и ящик консервов и привязывали сзади – вот это их трофеи. Было разрешено всем посылать посылки домой, с трофеями, восемь килограммов в месяц. Тут кто как умел. Кто-то не посылает, так офицеры просят его послать от себя, то есть могли послать две и три посылки. Кто около машины был (например, у нас была рота технического обеспечения), они в своей машине могли накопить сколько угодно».
Вообще трофеи – это неотъемлемый элемент любой войны, но следует помнить, что существуют как боевые (знамена, оружие и т.д.), так и небоевые трофеи, к которым следует отнести имущество гражданского населения. Взятие небоевых трофеев предполагает грабеж в той или иной степени. О нравственном уровне советских воинов можно судить и по тому, насколько беззастенчиво они опустошали дома в захваченных городах Восточной Пруссии. Из рассказа Никиты Михайловича видно, что, к сожалению, не все смогли удержаться и не переступить черту, за которой начинается настоящее варварство. Пример из «Воспоминаний» Никиты Михайловича:
«Недалеко от нас, за станцией, стоял брошенный помещичий дом, который обнаружили наши ребята. Тотчас же туда был организован поход за зеркалами, матрасами, папками для бумаг и тому подобным хламом. В походе принял участие и я, нашел там несколько английских журналов и стал свидетелем безобразного случая. В зале стоял рояль, и какой-то из младших офицеров сел за рояль и начал ногами лупить по клавишам. Меня поразило проявление подобной дикости».
Можно возразить: немцы на оккупированных территориях СССР вытворяли такие зверства, что поведение наших воинов выглядит как акт справедливой мести, но я не могу согласиться с этим. Месть – это не созидающее, а разрушающее и, следовательно, безнравственное чувство. И очень грустно, что наши солдаты вели себя как захватчики, а не как освободители по отношению к гражданскому населению Восточной Пруссии.
Однако Никита Михайлович продолжает рассказ:
«А я все искал сапоги, чтобы избавиться от обмоток, которые солдаты называли “сапоги – сорок раз вокруг ноги”. Но проклятые немецкие сапоги в подъеме не лезли. Пар десять я перепробовал – ни одни не лезли. Ребята тоже говорили, что у них какой-то подъем дурацкий – узкий очень. Ну это все мелочи…
В составе 43-й армии мы освободили Тильзит, получили наименование “полк Тильзитский”…
Потом мы в Восточной Пруссии воевали».
Штурм Кенигсберга
За участие в штурме Кенигсберга Никита Михайлович был награжден медалью «За взятие Кенигсберга».
Подробно о подготовке к этому штурму написано в «Воспоминаниях»:
«Но вот наступил апрель 1945 года, и мы получили приказ занять исходные позиции. Когда мы ехали на указанное место, меня поразило огромное количество огневой техники. Почти через каждый десяток метров стояли или пушки, или минометы, или реактивные снаряды, несколько в стороне – “катюши”. Вот-вот должен был начаться штурм.
У меня одно такое яркое воспоминание: я стоял перед штурмом на часах у какого-то склада. Кругом сирень, соловьи поют… Я стоял и думал: уцелею я после этого штурма или не уцелею. Нас напугали изрядно, то есть нам говорили, что там форты неприступные, рвы с водой, что там ничего трофейного брать нельзя – все может быть отравлено. Может быть, так и было, но я только знаю, что накануне штурма рота штрафников пошла в бой и через несколько часов на форте взвился советский флаг. Штрафники, сами понимаете, у них выхода нет. А потом, значит, их штурмовали мы. То есть как штурмовали: самоходки стреляли, а мы сидели рядом и их охраняли. До рукопашной там не доходило, конечно. Но обстрелам мы подвергались в первую очередь, потому что излюбленная мишень обстрела – это танки и самоходки… Я помню, как Кенигсберг горел, горел особенно. И вот почему: наши приходят в дом, – а штурм был 6 апреля, и еще было прохладно, – разложат на полу костер, греются, варят еду и уходят, костер остается. Дом и загорелся.
В начале штурма был один случай, довольно меня… потрясший, что ли. Пришел новый командир взвода автоматчиков, мальчишка с курсов младших лейтенантов. Первый раз попал на фронт после курсов, совсем молодой. И мы с ним как-то шли, проверяли дома рядом с самоходкой. И вот входим в один дом, встает фигура, руки поднимает: “Я поляк, поляк!” А сам в немецкой форме. Лейтенант говорит: “Какой ты поляк, пойдем!” Вывел его в зады и расстрелял. Так просто, ни за что. Мне кажется, что этот мальчишка хотел посмотреть, как это – людей убивать. Никакой необходимости не было, да он и права не имел расстрелять вот так. Потому что он должен был отвести его в штаб полка, там разберутся. А что я мог сказать? Он командир, я солдат, я молчу…»
Этот эпизод, рассказанный Никитой Михайловичем, меня тоже потряс. Он имеет два аспекта: правовой и нравственный. С первым все ясно. Младший лейтенант нарушил постановление СНК от 1 июля 1941 года, запрещавшее «жестокое обращение с военнопленными». Пленным надлежало сохранять их личные вещи – от обмундирования до орденов и медалей; всем раненым и больным оказывать необходимую врачебную помощь; военнопленных обеспечивать продовольственным и иным снабжением в соответствии с общепринятыми нормами[2]. С моей точки зрения, не менее важен второй аспект, определяющий цену победы в одном маленьком эпизоде большой войны. Казалось бы: что значит смерть одного немца на войне, на которой счет шел на миллионы и десятки миллионов жизней? Дело не в немце, а в молоденьком младшем лейтенанте. Какой нравственный сдвиг должен был произойти в его сознании, чтобы он убил не вооруженного врага в бою, исполняя воинский долг, не бандита в порядке самообороны, убил не в состоянии аффекта, пораженный гибелью друзей или родных на его глазах (тогда это можно было назвать самосудом). Он убил «просто так», нарушив приказ о том, что пленных надо доставлять в штаб. В мирное время он, вероятнее всего, не лишил бы жизни человека даже ему неприятного, не переступил бы ту грань, которую с такой легкостью переступил на войне. Возможно, он руководствовался расхожим выражением «война все спишет», возможно, боялся, что война скоро закончится и он не успеет лично уничтожить ни одного фашиста. Но как бы то ни было, его поступок аморален.
«У нас нет пленных…»
«После этого мы поехали на Земландский полуостров, который был еще в руках немцев. Это севернее Кенигсберга. И тут тоже был один случай, всех потрясший. Мы ехали по какому-то шоссе. Идет навстречу колонна пленных немцев. Ближе их подвели – оказывается, узбеки в немецкой форме. Наши готовы были их разорвать, да конвой к ним не подпустил бы. Вы представляете, что это такое? Сволочи, простите за выражение».
О нравственном облике изменников, предателей можно не говорить. Во все времена их презирали. Однако нельзя судить обо всех попавших в плен бойцах по тем, кто стал сотрудничать с фашистами. Проблема пленных имела и другую сторону. Вот как об этом говорит Никита Михайлович:
«Те, кто был в плену, кого освободили наши, свои, отправились потом в лагеря как изменники. Как стали говорить, “у нас нет пленных, у нас есть только предатели”. Не знаю, каким словом назвать эту подлость для народа, для людей. Человек воевал, переносил столько невзгод, был, быть может, ранен, и вот потом…»
В плен попадали, разумеется, люди разных национальностей, но в то же время и подвиги совершались людьми разных национальностей. Однако в самый тяжелый период войны, опасаясь измены и перехода на сторону фашистов, Сталин провел депортацию отдельных народов: в августе 1941 года депортировано 950 тыс. немцев (среди них 500 тыс. немцев Поволжья), тем самым он как бы заклеймил целый народ как потенциальных предателей; по мере освобождения Кавказа в октябре 1943 – марте 1944 года депортировано около 700 тыс. жителей Северного Кавказа. Последствия этой сталинской «национальной политики» сказываются в жизни нашей страны до сих пор. Именно на Северном Кавказе самые «горячие точки» нашей сегодняшней жизни…
Решение Сталина о депортации целых народов, естественно, вызвало у этих народов чувство озлобленности, жажду мести, которая по сути своей не является нравственным чувством.
«А воевали отменно, особенно украинцы, татары, грузины, армяне. Например, когда мы выбивали немцев из Литвы, то там подали на командира самоходки, армянина, наградные документы для присвоения звания Героя Советского Союза, но через несколько дней в ночном марше его самоходка опрокинулась и были жертвы. Сразу послали отбой. Ну, все бывало на войне…»
Победа!
О последних днях войны Никита Михайлович вспоминает так:
«Наступая по Земландскому полуострову, мы вышли к косе, отсекающей Куршский залив, на конце которой находилась немецкая военно-морская база Пиллау… Коса была покрыта сосновым лесом, от которого остались только расщепленные пни и поваленные деревья. Дело в том, что через порт Пиллау немцы эвакуировали свои войска в Германию и все части, ожидавшие отправки, вели непрерывный огонь по косе. Кроме того, на косе были сделаны взаимно перпендикулярные просеки, что очень мешало танкам и самоходкам. Как только самоходка высовывалась на перекресток просек, то сразу получала в борт болванку или заряд фаустпатрона. Вдобавок ко всему, немецкие корабли с моря тоже вели огонь по косе. В результате в нашем полку осталась только одна самоходка, когда пришел приказ выйти из боя. Самоходка, на которой ехал и я, уходила в тыл и везла на броне наводчика одной нашей самоходки, сожженной немцами. Наводчик по фамилии Лопатченко страшно обгорел, но мы все надеялись и страстно желали, чтобы он остался жив.
После выхода из боя полк без боевых машин был отведен в тыл и размещен в городе Гумбиннен. Служба шла без особых трудностей, как вдруг однажды ночью нас разбудила усиленная стрельба. Мы вскочили, думая, что на нас набрела какая-нибудь немецкая часть, выходящая из нашего тыла, но когда мы вышли на улицу, то увидели, что весь горизонт сверкает разноцветными ракетами, а люди кричат “Победа!”, пляшут и радуются. Мы вытащили на улицу ящик с ракетами и ракетницу и приняли участие в общем ликовании».
Великая Отечественная война – один из самых трагических периодов истории нашей страны. Для кого-то это уже далекая история, но для людей, переживших войну, она – граница между жизнью «до» и «после». Люди, пережившие ее, тем более воевавшие, на всю жизнь сохранили в памяти годы тяжелейших испытаний. Рассказ Никиты Михайловича Гернгросса заставил меня задуматься о том, о чем раньше я знала лишь отвлеченно, не связывая с конкретными людьми. От тех, кто воевал на фронте, от обычных людей с их достоинствами и недостатками, война требовала максимального напряжения всех сил, физических и душевных. Победа, так необходимая каждому советскому человеку, стране, всему миру, далась очень дорогой ценой. Война ничего не списала. Она оставила на телах и в душах людей страшные раны… Но в войне всегда участвуют две стороны, и она безжалостна по отношению к обеим: и к агрессорам, и к освободителям. Война подвергает людей суровому испытанию, всей тяжестью своей обрушивается на нравственные запреты, которые есть в каждом из людей. Она обесценивает человеческую жизнь и подчас заставляет быть неоправданно жестокими. Она заставляет людей совершать поступки, которыми нельзя гордиться. В этом состоят аморальность и безнравственность войны.
Кроме того, и само государство оказалось безжалостным по отношению к своим гражданам, расширяя во время войны категории людей, подвергающихся репрессиям.
Закончить я хочу словами Никиты Михайловича Гернгросса:
«Священная была война, ничего не скажешь. Страшно подумать, что было бы, если бы Гитлер победил. Мы победили фашизм, только вот не “малой кровью, могучим ударом”, как пелось в песне…»