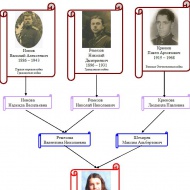Репрессированная Москва. Прогулки по городу в разное время / Андрей Ряшко, Илья Ряшко
Москва, школа № 380, 9 и 11 классы
Научный руководитель: А.В. Воронина
Мы неслучайно начинаем маршрут с того самого места, где находится наша школа. Преображенка – случай особый. Здесь когда-то родилось учреждение, которое со страхом обходили местные жители: страшный Преображенский приказ. От него тянется историческая нить ко всем последующим «канцеляриям» и «управлениям». Мы попробуем отсюда проследить, насколько «человек XX века» оказался преемственен в этой «области своей деятельности», насколько бывает живуча память места.
Это страшное заведение возникло еще раньше под названием Съезжая изба или Преображенский приказ и, по нашему мнению, если и меняло свои очертания и размеры, то все равно находилось примерно на этом месте. Как указывает в своей знаменитой книге «Преображенское и окружающие его места» П.В. Синицын, это учреждение «не имело сходства ни с какими другими судилищами, а было единственном в своем роде и только было похоже на Римскую инквизицию» [fn] Синицын П.В. Преображенское и окружающие его места. М., 1997. С. 68. [/fn]. Здесь велись дела об общественной безопасности, дела, которым придавали статус особой важности и вели их с особым пристрастием. «Князь Федор Романович Ромодановский, свирепый нравом и бесчеловечьем, решал их без апелляции». Про этого героя кнута и застенка сказано: «…собой видом как монстра, нравом злой тиран; превеликой нежелатель добра никому и пьян по вся дни…» [fn] Там же. С. 72. Со ссылкой на «Архив кн. Куракина». [/fn]. Остатки четырнадцати страшных застенков описал Н.М. Карамзин – остатки темных казематов и длинных коридоров, где производились «нещадные розыски». «День и ночь работала канцелярия в Преображенском, в вертепах которого лились потоки крови» [fn] Там же. С. 87. [/fn]. Отметим интересную подробность: тогда в страшном приказе (как и вообще на Руси) не принимались никакие посторонние доказательства и оправдания, как полученные под пыткой, только они имели юридическую силу. Как тут не вспомнить «царицу всех доказательств» сталинского судопроизводства – признание самого обвиняемого!
Прежде чем оставить Преображенку, обратимся к дому № 5/7. На этом месте был детский приют, который закрыли после революции, дом снесли, а к 1937 году построили жилой дом для работников НКВД. Были здесь в основном коммуналки, хотя жили и высокие чины НКВД. Беседовали мы в основном среди старожилов только с потомками тех, кто занимал небольшие должности в НКВД. По рассказам знаем, что очень многих из этого дома – новостройки 1937 года увозили по ночам.
Если мы двинемся дальше по Электрозаводской улице или по набережной, то вскоре попадем в соседнее Лефортово, где расположена (рядом с одноименным валом) Лефортовская тюрьма, ныне изолятор ФСБ. То есть тюрьма непростая, да и вообще историческая. Здесь до сих пор часто сидят «исторические люди». «Тюрьма есть ремесло окаянное, а для скорбного дела потребны люди твердые», – писал Петр I. Екатерина Великая думала иначе и вскоре после своего восшествия на престол объявила в Сенате, «чтоб стараться как можно кровопролитие уменьшить», т.е. ограничить применение пытки. Окончательно пытка была запрещена при Александре I вплоть до ее воскрешения в годы Большого террора.
После социалистической революции тюрьма становится уже не просто учреждением, куда всегда попадать нежелательно, но настоящим земным адом со своими кругами. В этой жуткой иерархии Лефортовская тюрьма занимала второе место после тюрьмы, располагавшейся близ Москвы в ныне возрожденной Свято-Екатерининской обители, знаменитой своими ужасами «Сухановки». Но и в Лефортове были «психические камеры», окрашенные в черный цвет с круглосуточным двадцативаттным освещением. Камеры с грязным асфальтовым полом, на котором из-за тесноты заключенные лежали по очереди и поворачивались все одновременно.
О Лефортовской тюрьме много написал в своих воспоминаниях В. Буковский, один из первых и самых активных правозащитников поколения «оттепели». Человек, «силе воли и духа которого нельзя не поразиться» [fn] Предисловие А. Аджубея к воспоминаниям В.К. Буковского «И возвращается ветер» (М., 1990). [/fn]. В этой «пытошной» тюрьме, которой при Сталине пугали упрямых арестантов» Буковский сидел 5 раз с 1963 по 1976 год. «Мне кажется, что всю свою жизнь я провел в Лефортове. Засыпал, и только грезилось мне, что я на воле.
Почти каждые три года, точно взмахами маятника, забрасывало меня сюда. Здесь я увидел самую последнюю степень человеческой подлости и самую отчаянную честность. Здесь всегда хотели от меня одного – раскаяния» [fn] Буковский В.К. «И возвращается ветер». М., 1990. С. 131. [/fn]. Но покаяния не получилось. Огромная государственная машина, оказывается, иногда не может сломить даже одного человека, если он этого захочет, если победит свой страх. Никто не гарантировал ему тогда, в лефортовской камере или в лагере, что все будет иметь счастливый конец. Сколько товарищей, друзей не досчитались те, что вышли первыми на улицы послесталинской Москвы! Сколько отстало по дороге, выбрав более спокойную жизнь.
От Лефортовской тюрьмы мы двигаемся к центру города по Мясницкой улице. Она несколько раз меняла свое название, однажды в связи с эпохальным для жизни многих советских людей событием – убийством С.М. Кирова. По этой улице в декабре 1934 года прошла грандиозная похоронная процессия от Ленинградского вокзала к Колонному залу за гробом большевика, «злодейски убитого троцкистско-зиновьевской бандой», – как вынужден был написать уважаемый знаток Москвы П.В. Сытин даже четверть века спустя. Вскоре после тех событий улица и станция метро были названы именем Кирова, никогда не жившего и не работавшего в столице, и сохраняли это название до 1990 года.
Елена Боннэр много лет спустя вспоминала, как в их семье, где не было оппозиционеров, а только работники партии, отреагировали на эту смерь. Разговоры, перешедшие на шепот, тягостное молчание, сидение за столом в клубах дыма. Родители и те, кто приходил, «были не только подавленные, а какие-то потухшие, затравленные… Все были, как убитые. По существу жизнь «в колею» больше не вошла никогда. Из тех, кто в кировские страшные ночи был у нас дома, погибли все мужчины» [fn] Боннэр Е.Г. Дочки-матери. М., 1994. С. 179. [/fn].
Путеводители усердно перечисляют живших на Мясницкой поэтов и их особняки, дома коллекционеров и живописцев на этой деловой и интеллигентской улице города. Мы же сделаем другой, грустный вывод о судьбе ее жителей в XX веке. Русская революция объявила войну русской интеллигенции, всем этим особнякам и очагам культуры. Ее тоже собирались «отряхнуть с наших ног». Этой интеллигенции больше нет, как и прежней России. Прошел не один десяток лет, прежде чем это осознали.
В начале Мясницкой расположен музей знаменитого поэта. Мрачно смотрит Маяковский на торопливых прохожих, которые не обращают на него внимания. Иначе обязательно удивились бы довольно странной и одинокой бритой голове, установленной в темном проходе. Вычислительный центр ФСБ, выстроенный в 1987 году, почти полностью поглотил старое здание, где поэт «проплыл в комнате-лодочке три тыщи дней» и добровольно ушел из жизни. 17 апреля 1930 года отсюда, с Лубянки, по улицам Москвы поехал грузовик с его гробом. С 1974 года здесь расположен музей, при этом старый на Таганке был закрыт. А здесь исчез не только старый мемориальный дом, но и даже остатки коммунальной квартиры, осталась только комната Маяковского.
Рядом, в Политехническом музее «просвещенный нарком» Луначарский вступал в жаркие диспуты с церковниками, иногда в весьма развязных выражениях доказывая отсутствие существования Бога. Диспуты о мощах, которые тогда повсеместно предавались поруганию, могли окончиться, вообще не начавшись за арестом некоторых участников. Тогда же здесь родилась и традиция встреч с поэтами. Сотни людей приходили на встречи с Есениным, Маяковским, кричали, слушали, спорили. Пока еще было можно. Все повторится в 1960-е годы, когда свобода творчества, проблемы искусства и литературы станут опять волновать общество.
Перед музеем, на площади – камень, привезенный с далеких островов. Соловецкий камень – это символ нашей памяти о миллионах погибших соотечественников. Этот камень и в честь тех, кто противостоял, пусть даже не делом, не словом, а только неприятием всего происходившего вокруг.
Перед нами сама Лубянская площадь. Ее название напоминает о существовании и гибели практически единственной в нашей истории республики – Новгородской. Название «Лубянка» появилось в Москве в конце ХVI века. Его привезли с собой насильно переселенные сюда новгородцы, у которых дома была улица «Лубяница». К слову, и разрушенная Гребневская церковь была памятником победы Москвы над новгородцами. Сначала в дереве ее построили при покорителе Новгорода Иване III, а в камне при его внуке Иване Грозном, учинившем в городе чудовищный по жестокости погром и убийства его жителей. Поэтому не могло это название принести в Москву ничего, кроме крови и слез. Место, где поселили депортированных новгородцев, расположено на вершине одного из легендарных московских холмов. После смерти в 1926 году «рыцаря революции» площадь получила имя Дзержинского. Только в начале 1990-х годов ей было возвращено прежнее название.
К слову, смена имен улиц – это тоже репрессия, насильственное уничтожение исторической памяти народа
Не стала исключением и Лубянка. Ее разрушение началось в середине 1930-х годов, когда были разобраны стены и башни древнего Китай-города. Безвозвратная потеря Москвой своих памятников, своего исторического центра – это предмет особого разговора, долгого и тяжелого. Трудно об этом вспоминать, но как невыносимо было жить в те годы и быть бессильным очевидцем, свидетелем варварского разрушения родного города! Не узнать теперь старой Лубянской площади. Почти все ее наземные и подземные сооружения с левой стороны занимают органы Федеральной службы безопасности. «Лубянка» – слово одно, а обнимает собой целую систему улиц и переулков. Это уже не имя городского пространства, а свой мир, особое понятие, это, по выражению одного краеведа, заглавная буква 70 лет нашей истории.
Там, где Мясницкая выходит на Лубянку, сейчас небольшой газончик на месте неуцелевшего старинного трехэтажного дома, бывшего подворья Рязанского архиерея. Здесь, в подвалах XVIII века располагалась страшная Тайная канцелярия, преемница Преображенского приказа и непосредственная предшественница грозных органов на самой Лубянке. Сюда перебралось со временем «пытошное ведомство». «Кнутобойничал» в канцелярии палач и душегуб Степан Шишковский, как, впрочем, и в казематах Петропавловской крепости. При его появлении слова замирали на устах придворных. А арестованный Радищев, узнав, что его будет допрашивать сам Шишковский, упал в обморок. Но Радищев, «бунтовщик похуже Пугачева», здесь не содержался, зато по некоторым сведениям, был в заключении сам Емельян Пугачев. Попал сюда на расправу к Шишковскому и знаменитый масон и просветитель Н. Новиков, чей дом стоял на другой стороне Лубянской площади. По легенде, именно здесь шло следствие и над страшной Салтычихой, чей дом располагался также на Лубянке. В этом доме со страшными подвалами во времена Гиляровского уже жили небогатые чиновники. Жуткое впечатление производили их квартиры нижнего этажа – с невероятно толстыми стенами, из которых торчали ржавые крючья и кольца. Жильцы считали, что это остатки пыточных орудий, а углубления в стенах, где ныне мирно помещались шкафчики с посудой, «каменными мешками». Эти подземелья описывал и знаток подземной Москвы, «воинствующий подземник» И.Я. Стеллецкий. По его мнению, подземные ходы шли отсюда до самого Кремля. В современном виде и на другом уровне оборудования они существуют на Лубянке и сегодня.
Восклицательным знаком нашей истории стоял на площади памятник Дзержинскому, выполненный скульптором Е.В. Вучетичем (архитектор Г. Захаров) в 1958 году. В целом – это прекрасный образец городского монумента, организовывавшего вокруг себя все пространство оживленной площади. Даже тот факт, что к памятнику нельзя было подойти, а только все кругом да кругом, был тоже глубоко символичен. Сейчас остался здесь только холм, в теплое время покрытый кроваво-красными цветами. Почему-то нам кажется, что в таком виде он невольно напоминает лобное место. На фотографии, снятой вечером 21 августа 1991 года – монумент, буквально повешенный на тросе от стрелы крана. Впрочем, если сейчас он вернется обратно, то немного наших соотечественников будет этим озабоченно: людям кажется, что у них есть более важные дела.
Они даже не подозревают, а расскажи – не поверят, что в тридцатые годы на этой площади не то, что плясать, а стоять просто так не разрешалось. Сразу подходил «человек в штатском» и предлагал удалиться. Теперь же мы даже прошлись вдоль зданий на площади с фотоаппаратом, правда, особо его не афишируя. Вот самое известное здание органов, стоявшее раньше прямо за спиной Дзержинского – «Большой дом». А ведь когда-то это был всего-навсего доходный дом преуспевающей страховой фирмы с символичным теперь названием «Россия». В конце XIX века архитектор А.В. Иванов построил во владениях известного всей Москве коллекционера и академика Мосолова целый комплекс зданий в стиле модной эклектики. Магазины, квартиры, меблированные комнаты гостиницы «Империал» – все это приносило доход страховому обществу. В основном здесь доживали свой век помещики, разорившиеся после реформы 1861 г., снимали комнаты актеры, врачи, писатели. В общем, люди самых мирных профессий, «любившие уют и тишину, спокойные и небогатые» [fn] Гиляровский В. Москва и москвичи. М., 1959. С. 104. [/fn]. В 1920-е годы здесь уже располагались кабинеты сотрудников ЧК-ОГПУ, где велись нескончаемые ночные допросы, а гостиница превратилась во внутреннюю тюрьму. Комплекс перестроил А.Я. Лангман, ставший с 1927 года фактически главным зодчим НКВД. При наркоме Ягоде появился новый громадный корпус, отделанный черным лабрадором. Он открыл свои знаменитые железные ворота перед «воронками» в 1933 году. А в 1946 году «в связи с расширением объема работы» была сделана последняя пристройка по проекту знаменитого автора мавзолея А.В. Щусева: «от мавзолея до Лубянки». Потом начали строить уже отдельно стоящие громадины. Ныне они занимают всю эту сторону площади: три гигантских здания разных оттенков от угрюмого темно-серого до нежно-розового. Но вернемся к «Большому дому», дому № 2 по Большой Лубянке, или, как ее иногда называют осмелевшие московские краеведы, «Большой Чекистской». Своя тюрьма была у карательных органов в каждом крупном городе и называлась она «внутренней», или «внутрянкой», (как будто бывают «наружные» тюрьмы!). Лубянская считалась центральной политической «внутрянкой». Ей посвящено множество страниц в самых разных воспоминаниях. Наверное, даже получилась бы целая книга «История одного Большого дома по воспоминаниям современников и очевидцев». Тюрьма – организм, очень чутко реагирующий на изменения в стране. Поэтому и воспоминания людей, в разное время попавших на Лубянку, порой сильно отличаются друг от друга.
Виктор Серж (Виктор Львович Кибальчич) – потомок одного из казненных народовольцев. Его судьба – это целый роман, необыкновенный даже для щедрого на всякие перипетии XX века. Анархист в Париже, узник французской тюрьмы, влиятельный большевик в России, которую он всегда считал своей второй родиной, агент Коминтерна, троцкист, член руководящего центра оппозиции в Ленинграде, гонимый, политический ссыльный в Оренбурге, политический изгнанник от рождения, вероятно, убитый агентами ГПУ в Мексике, куда забросила Сержа судьба в годы фашизма. Весной 1932 года он оказался узником Лубянки. Здесь он сразу попал в знаменитый подвал, крохотную ярко освещенную комнату. Через сутки переводили на первый этаж, где можно было недели коротать в неопределенном ожидании и спать на цементном полу. «Атмосфера была пропитана тревогой, смешанной с напускной веселостью» [fn] Серж В. От революции к тоталитаризму. Воспоминания революционера. М., 2001. С. 350. [/fn]. После пятого обыска Серж наконец «попал в первоклассную тюрьму для обвиняемых по самым серьезным делам. Тихая, тайная внутренняя тюрьма, разбитая на клетки. Каждый этаж представлял собой отдельный изолированный отсек с отдельным входом и приемным окошком. Красный ковер приглушал малейший шум шагов. Вежливые, прекрасно вышколенные, будто доведенные до автоматизма бойцы. В камере сносная кровать, стол, стул, все чистое, свежевыкрашенные стены. Удивительная тишина. Только звонки и лязг трамваев с соседней Мясницкой» [fn] Серж В. От революции к тоталитаризму. Воспоминания революционера. М., 2001. С. 350. [/fn]. Тринадцать папирос и тринадцать спичек в день, абсолютное одиночество в течение восьмидесяти дней. Это все было не так страшно, как позже и в других тюрьмах, где и повернуться в камере было негде, и приносили с допроса на носилках.
Лубянке в «Архипелаге» Солженицына посвящена целая глава. Высок, просторен и светел был кабинет следователя. Главное его украшение — четырехметровый портрет вождя. Просторные камеры: матрасы, кровати, белье, чайник, шахматы, книги из библиотеки. «Это не камера! Это дворцовый покой» [fn] Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. М., 1990., т.1. С. 132. [/fn], – с горькой иронией восклицает автор. Свет, правда, на ночь не тушили, рук под одеяло убирать не разрешали. Зато была библиотека, «украшение Лубянки, ее уникум». Созданная из конфискованных у «врагов народа» книг, она хранила и выдавала даже запрещенные издания. Солженицын попал сюда весной 1945, когда все тюрьмы страны были заполнены нашими военнопленными. «Они шли косяками, плотными и необозримыми, как океанская сельдь» [fn] Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. М., 1990., т.1. С. 132. [/fn]. Все те, кто принял первые удары войны и прошел через ужас плена. К ним прибавились доверчивые русские эмигранты, да еще та молодежь, которая зашевелилась после войны, создавая по-детски наивные, но все же подпольные «ленинские» организации.
Про этот дом можно рассказывать бесконечные истории, но мы продолжим наш путь по улице, переименованной в 1920-е годы в честь «организатора защиты молодой советской республики». Сейчас ей вернули прежнее название – Большая Лубянка. Когда-то здесь не было ни одного дома, не связанного с госбезопасностью. Буквально ни одного. Но мы поговорим о наиболее известных.
За «Большим домом», где ныне расположено ФСБ и Управление Госпогранслужбы, стоит выстроенный в 1928 году архитектором И.А. Фоминым в стиле конструктивизма дом № 12. Сначала дом № 2, а потом сразу дом № 12. Таинственные четыре номера отсутствуют или, может быть, они под землей? Во всяком случае, сразу видно – непростая это улица и посторонних домов здесь нет. Конструктивистский дом предназначался сначала для квартир своих сотрудников, но позже неохватные объемы работы эти квартиры вытеснили, и они превратились в служебные кабинеты. Этот дом был построен при вечно болевшем и потому находившемся на даче чекистском наркоме Менжинском и был самим высоким в довоенной Москве. На самом деле, здесь слиты сразу несколько зданий. Историки называют их «домом Динамо», потому что перестройку осуществил тот же Лангман, который был и автором знаменитого стадиона для «гэпэушных» команд. Кстати прижившееся в спорте название «Динамо» придумал сам Дзержинский.
Теперь перейдем на другую сторону улицы. Там сплошные владения Службы безопасности, с вывесками и без них. Без вывесок пропускаем. Дом № 11. В XIX столетии этот дом занимали антикварные лавки, издательство сына великого актера М.С. Щепкина и известного коллекционера купца-старообрядца К.Т. Солдатенкова. В этих стенах торжественно принимали вернувшегося из ссылки и солдатчины Т.Г. Шевченко. Позже в традициях этой улицы дома заняли страховые общества, «не было в дореволюционной Москве другой улицы с таким количеством агентств, где можно было застраховать все, что угодно» [fn] Колодный Л. Москва в улицах и лицах. М., 1999. С. 406. [/fn].
Переехавшая вместе с новым правительством в Москву ВЧК заняла сначала особняк на тихой Поварской улице, рядом с Новинской тюрьмой, существовавшей позже и в сталинской Москве. Московская ЧК заняла дом старой московской охранки и сыска в Большом Гнездниковском переулке. Когда обе ЧК объединили свои усилия, им предоставили два нечетных дома на Большой Лубянке: международного страхового общества «Русский Ллойд» и просто страхового общества «Якорь». На мемориальной доске – профиль Дзержинского. Здесь располагался его рабочий кабинет. В полуподвальном помещении первого этажа, в «трюме», устроили «внутрянку», следственный изолятор.
По некоторым свидетельствам, основные расстрелы производились в соседнем Варсонофьевском переулке, в «расстрельном гараже». Работающие моторы машин заглушали нежелательные звуки. Этот гараж существует и сейчас, и поныне он принадлежит своему ведомству, как и почти все вокруг него. Миллионы людей ухитрялись ничего не знать о том, что творилось у них прямо под носом. Ведь это не один такой «расстрельный уголок».
Следующий дом № 13 – бывший клуб ВЧК, да и сегодня культурный центр МВД. Какое соседство! Рядом подвалы ЧК – и тут же культурно- просветительская работа. В одном доме расстреливали, в другом развивали художественную самодеятельность. Здесь было основано и спортивное общество «Динамо». Как символ воплощенной демократии, и расположенное тут же кафе «Щит и меч», в окнах которого мирно переплетаются знаки чекистской символики. Правда, охранник кафе недовольно и выразительно вышел на улицу, заметив наш фотоаппарат.
В начале 1920-х годов московская ЧК переезжает в дом напротив – дом № 14, изящный особняк, выстроенный в духе Растрелли. В 1812 году дом приобрел генерал-губернатор, главнокомандующий Москвы Ф.В. Растопчин.
Теперь опять перейдем улицу, где от дома № 11 поворачивает вглубь тихий (или притихший?) Варсонофьевский переулок. Ничего, ни единого камня не осталось от монастыря в облюбованном чекистами переулке. В доме № 2/10 располагалось знаменитое общежитие для работников Лубянки. На Сретенке находились гостиницы для временных сотрудников, а здесь еще один дом-коммуна ГПУ. Рядовые сотрудники имели маленькие комнатушки, где едва помещалась кровать, часто отсутствовала даже посуда.
Получали они около 150 руб. Начальники отделов – по 210. Из них 50 отдавали за квартиру (это был кооператив), а потом шли бесконечные выплаты в «добровольные общества»: Авиахим, МОПР, Добролет, «Друг детей», «Шеф деревни», займы, партвзносы, помощь бастующим за границей рабочим и т.д. Многие жители кооператива были вечными должниками, у них не хватало даже на белье. Выделялись сотрудники ИНО в прекрасных импортных костюмах и шляпах, модных галстуках. Судьба многих из жителей гэпэушного кооператива одинаково оборвалась в конце 1930-х годов.
Почти напротив общежития тогда располагался старинный дом, в котором находились «расстрельные боксы», и круглосуточно дежурили спецкоманды (ныне современная постройка – дом № 7). На месте бывшего монастырского собора – спецполиклиника для сотрудников госбезопасности, а рядом – спецавтобаза № 1. Все здесь «спец». Но это самый ужасный «специальный объект»: на территории этой автобазы в конце 1920-х – начале 1930-х годов происходили массовые расстрелы наших соотечественников.
Но «серый дом» строился в иные времена, и не пощадили тогда исторический дом № 24 по Кузнецкому мосту. Эта улица – «Парижа пестрый уголок», по словам П.А. Вяземского. Для кого-то дорога во «французские лавки», а для кого-то в страшный дом № 24. Когда-то находилась здесь мастерская знаменитого скульптора И.П. Витали, автора фонтана на Лубянской площади. У скульптора одно время жил блестящий живописец Карл Брюллов, к которому не раз приходил сюда Пушкин в последний год своей жизни. Именно тогда Витали создал лучший из скульптурных портретов поэта.
В 1930-е годы здесь располагалась приемная НКВД, и тысячи родственников приходили сюда, выстраиваясь в огромные очереди, тянувшиеся по извилистому проходному двору до Пушечной улицы, к одной невзрачной двери с маловразумительной табличкой «Помещение № 1», чтобы узнать о судьбе близкого человека. Были среди искавших здесь и Марина Цветаева, и Анна Ахматова. Мы упоминаем эти имена не потому, что их горе было особенным или более значительным, чем у других несчастных, а потому, что они оставили в стихах страшную боль.
«Узнала я, как опадают лица,
Как из-под век выглядывает страх,
Как клинописи жесткие страницы
Страдание выводит на щеках…
……………………………………..
И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною
И в лютый холод, и в июльский зной…»
А. Ахматова «Реквием»
Целый рассказ посвятил этому дому Лев Разгон в своей книге «Непридуманное»: «Проклятый, ненавистный и страшный дом. Многие десятилетия в нем только плакали. Здесь было пролито столько слез, что если бы они все сохранялись, то дом этот стоял бы на берегу соленого озера. И до самого последнего момента, перед тем, как ударить по дому чугунной бабой» висела на нем вывеска «Приемная КГБ. Прием граждан круглосуточно» [fn] Разгон Л. Непридуманное. М., 1991. С. 275. [/fn]. Теперь она тоже висит, только на соседнем доме. А основной поток стоял в доме № 24 к одному единственному окошку, где давали сведения об исчезнувших людях. Эта очередь была началом «хождений по мукам», по всяким другим окошкам и очередям. Ведь государство в нарушение элементарных норм не утруждало себя выдачей справки, куда собственно отвезли человека из его родного дома, причем вина которого еще вовсе не доказана. У некоторых здесь принимали деньги для заключенных родственников. Это было единственным признаком того, что человек еще жив. Самым страшным ответом был: «справочная Военной коллегии». Но о ней позже. А в этом доме еще до появления в 1935 году страшной приемной НКВД, много лет на втором этаже люди получали вполне реальную помощь и информацию, благодаря удивительной женщине – Екатерине Павловне Пешковой, первой жене А.М. Горького. Здесь помещалось ко всему прочему «странное, ни на что не похожее и ни в каких справочниках не упоминаемое учреждение – Политический Красный крест» [fn] Разгон Л. Непридуманное. М., 1991. С. 278. [/fn]. Поэтому и помогали здесь не всем, а только родственникам тех, кто по партийной принадлежности (любой) оказался «за бортом» в стране «однопартийной демократии». Помогали совершенно легально – продуктами, деньгами, информацией. Сотрудников было несколько человек. Все они (кроме самой Пешковой) были репрессированы в 1937 году.
Политический Красный Крест был создан в царской России еще в 1913 году в Москве. Екатерина Павловна была связана с революцией, помогала попавшим в тюрьму политзаключенным и ссыльным. Это до сих пор неоцененная в истории организация просуществовала почти двадцать пять лет, продолжая свое дело и после революции. Вот это уже действительно загадка. У истоков Политического Красного Креста кроме Пешковой стояли Нина Семеновна Маршак и Вера Николаевна Фигнер. Маршак была женой А. Рыкова, председателя СНК и лидера правого уклона. Сама она после революции работала в области здравоохранения и создавала санатории и здравницы, оставив Красный Крест. Арестована была вскоре после мужа в июле 1937 года. Место и дата смерти неизвестны. Ей ПКК уже помочь не мог, его ликвидировали в год массового террора. Легендарная революционерка Вера Фигнер, народоволка и террористка, прожила удивительно долгую жизнь: целых девяносто лет, двадцать из которых прошли в Шлиссельбургской крепости и ссылке. В 1915 году она вернулась из эмиграции и больше не уехала, хотя революцию в большевистском варианте не приняла. Виктор Серж, переводивший ее мемуары, вспоминал очень маленькую старушку, «зябко кутавшуюся в шаль, с лицом, сохранившим следы былой красоты, обладавшей совершенной ясностью ума и благородством души. Она гордилась, считая себя живым символом прошлых революционных поколений» [fn] Серж В. От революции к тоталитаризму. Воспоминания революционера. М., 2001. С. 339. [/fn]. Серж полагал, что только преклонный возраст и исключительный авторитет избавили ее в 1931 году от ареста. «Она умерла на свободе, но под наблюдением» [fn] Серж В. От революции к тоталитаризму. Воспоминания революционера. М., 2001. С. 339. [/fn].
О самой Пешковой, возглавлявшей эту удивительную для нашей страны организацию, Серж оставил немало теплых слов. Пешкова помогла его семье покинуть пределы СССР. Он не переставал удивляться, как ей удавалось делать свое нелегкое дело. Наверное, редко, кто в своей жизни столкнулся с таким количеством горя, пусть и чужого, как Пешкова. Она «жила в тайном аду, хранительница бесчисленных секретов, и каждый был смертельный, как злейший яд. Она не уставала и не теряла мужества, оставаясь неизвестной широкому миру. Для нее все времена революции были черными» [fn] Серж В. От революции к тоталитаризму. Воспоминания революционера. М., 2001. С.392. [/fn].
Шефами госбезопасности с марта 1918 по август 1991 года были 20 человек. Пятеро из них были расстреляны, последний попал даже на нары в Лефортово. Двум из них посвящены мемориальные доски: Андропову и Дзержинскому.
Теперь мы покидаем Лубянку и, перейдя площадь, уходящей к противоположной стороне – Никольской улице. Так названа она была много веков назад по существовавшему здесь знаменитому греческому Никольскому монастырю. Не только он, но и другие не уцелевшие на улице учреждения, так много потрудились на ниве просвещения, что Никольскую нередко называли «улицей просвещения». Последние десятилетия ее название звучало по-другому – «25-го Октября».
Там, где улица выходит на Лубянскую площадь, много лет находилось страшное заведение – Военная коллегия Военного суда, дом № 23 (ныне Мосгорвоенкомат). В справочном окошке отчаявшиеся родственники здесь слышали один ответ: «10 лет лагерей без права переписки». «И удивительно! – мы, родственники, радовались и этому! Все еще может обойтись, во всем разберутся. А ведь о том, что они не придут назад, можно было догадаться и по разным приметам» [fn] Разгон Л. Непридуманное. М., 1991. С. 284. [/fn], – писал Разгон.
В этом доме в годы «большого террора» заседал Военный Трибунал, судивший видных деятелей партии, различных «органов», военачальников. Зачастую тех, кто совсем недавно подписал протокол с осуждением на казнь своего товарища.
Об одном посещении Военной коллегии оставил воспоминания художник Борис Ефимов, который приходил сюда в поисках сведений об арестованном брате – журналисте Михаиле Кольцове.
Когда в феврале 1940 года передачу не приняли, он добился приема в Военной коллегии. Его принял сам Ульрих в огромном, устланном коврами кабинете – маленький лысый человек с розовым лицом и аккуратно подстриженными усиками. Председатель всех страшных показательных процессов, он судил знаменитостей, но в своем кабинете был снисходительно добродушен и рисовался своей простотой. Беседой он явно забавлялся и говорил в основном об искусстве. «Мне хорошо, – заявил он Ефимову. – Никаких у меня нет братьев и вообще никаких родственников нет. Был вот отец, и тот недавно умер. Ни за кого не надо беспокоиться и хлопотать не нужно» [fn] Ефимов Б. Судьба журналиста. М., 1988. С. 12. [/fn]. Никакими досками не отмечен этот дом, в подвалах которого, возможно, приняли смерть многие из тех, кто вошел в нашу историю.
Никольская улица выводит нас на Красную площадь. Сколько парадов, речей, манифестаций и тожественно-траурных церемоний ощутил на себе ее булыжник! Кажется, что сама площадь уже давно «покраснела» от несметного количества знамен, транспарантов и от многолетнего освещения красными звездами.
Но ниоткуда, кроме как из рассказов очевидцев, вы не узнаете о пулеметах на крыше, о сотнях автоматчиков за задрапированными окнами внутри ГУМа, о специальных сетках под напряжением, готовых в любую минуту подняться из колодцев на Красной площади во время «мирных демонстраций трудящихся» (записано со слов служившего в подобных частях члена старообрядческой общины на Преображенском кладбище).
А сколько здесь покойников! Великие и средние вожди, в братских могилах погибшие в октябрьских боях 1917 года, основатели послушных КПСС зарубежных компартий, даже прокурор знаменитых политических процессов 1930-х годов Вышинский. Имя его, кажется, уже почти предано анафеме, а сам он по-прежнему пребывает на почетном месте в кремлевской стене.
Теперь, как и прежде, Ленин лежит в мавзолее один. А Сталин – рядом, но под открытым небом.
«Всевидящий», «всезнающий», «всемогущий», «лучший друг» всех людей, от детей до физкультурников, сейчас покоится в общем ряду за мавзолеем. На его могиле почти единственный сохранившийся ему в стране памятник – все, что осталось от огромной сталинианы, от бесчисленных портретов и статуй «человека с усами».
«…И приказано статуй
За ночь снять со станции.
…Ты представь – метет метель,
Темень, стужа адская,
А на нем одна шинель
Грубая, солдатская…
…Я сапог его кайлом,
А сапог не колется.
…Тут шарахнули запал,
Применили санкции, –
Я упал, и он упал,
Завалил полстанции».
Александр Галич
Теперь мы уходим в противоположную сторону площади, туда, где красуется еще один символ Москвы – храм Василия Блаженного. «Чувство нескончаемой радости рождается при взгляде на этот памятник», – сообщает нам путеводитель. Отчасти его авторы правы: нескончаемой радости от того, что этот памятник уцелел. Но одновременно и чувства другого плана при воспоминании о судьбе некоторых связанных с этим храмом людей.
Всю жизнь посвятил охране и возрождению памятников России великий реставратор П.Д. Барановский. Это он стал в свое время организатором знаменитых «реставрационных субботников» энтузиастов, это он спасал от разрушения и времени знаменитые храмы, это он воспитал плеяду талантливых учеников. Еще при жизни имя Барановского стало легендой среди реставраторов, но о некоторых эпизодах его биографии открыто заговорили недавно. Приговорен был к сносу недавно отреставрированный им Казанский собор на Красной площади. Потом настала очередь Покровского собора, «что на рву» Он в то время чрезвычайно мешал постановке «площадных комедий», а именно: прохождению военной техники во время парадов. И тогда реставратор, видимо не находя другого способа, прямо с почты (так говорят) отстучал «сердитую» телеграмму в Кремль. Храм остался на прежнем месте, а Барановский заплатил за его спасение арестом, тюрьмой, «десяткой».
Покидая Красную площадь, вспомним напоследок совсем необычную демонстрацию, когда на ее брусчатку 25 августа 1968 года вышли пять мужчин и две женщины с лозунгами осуждения оккупации Чехословакии советскими войсками. Вспомним, что тогда уже сотни людей, не покидая своей страны, мужественно пытались бороться за права человека: писатели, ученые, инженеры, врачи. Их было – почти капля в море. У этих людей не было оружия, только фотоаппарат, пишущая машинка, гитара, радиоприемник. Но даже с их помощью оказалось возможным сопротивляться режиму. Так возник самиздат – неподцензурная литература, издаваемая на папиросной бумаге с помощью печатной машинки. Первым редактором одного из таких журналов «Хроника текущих событий», ставшего основным в распространении правды, с 1968 года была Наталья Горбаневская, участница упомянутой демонстрации. Ее отпустили тогда из-под ареста из-за грудного ребенка. Остальные попали в лагеря, ссылку, психбольницы.
Мы переходим по мосту над Москвой-рекой и направляемся к Дому на набережной. В период своего строительства он назывался «Домом Советов». Таких элитных домов в Москве было несколько. Но этот был особенный: первая в советской Москве многоэтажка, с огромным количеством всевозможных культурно-бытовых учреждений. Не просто дом, а «жилкомбинат». Дом будущего. Со временем появилось и другое название – «Дом правительства». Чего здесь только не было! Наверное, здесь вообще уже тогда люди жили при коммунизме. И в этом смысле эксперимент дал положительные результаты. Жил здесь и автор проекта архитектор Борис Иоффан.
Он спроектировал символ коммунизма – Дворец Советов на месте уничтоженного храма Христа Спасителя. На сохранившихся изображениях этот проект подозрительно напоминает нам одно из семи чудес света – Александрийский маяк. Только вместо семиметровой статуи Посейдона здесь планировался гигантский памятник Ленину. Но война прекратила строительство. За несколько лет до нее Андре Жид возмущался: «Что прикажете думать, когда при такой нищете собираются вложить средства в строительство дворца Советов… Рабочий будет знать, по крайней мере, за что он умирает с голоду. Нет хлеба, зато будет, чем гордиться» [fn] Жид А. Возвращение из СССР. М., 1990. С. 130. [/fn]. Несколько десятилетий москвичи взирали на оставшийся унылый серый забор, потом здесь появились массы любителей водных процедур. И к юбилею христианства всего за несколько лет вырос новый храм.
Но вернемся на другой берег, к огромному серому дому. Теперь его называют «Домом на набережной» по очень известному роману Ю.В. Трифонова, жившего в этом доме и потерявшего здесь отца. Как и большинство жителей дома, его отец был расстрелян как «враг народа». Долгие годы писатель собирал все, что мог узнать о своем отце и его времени. Его бабушка знала Ленина, а Сталину отправляла в Сибирь посылки с теплыми вещами и деньги. Именно Валентин Трифонов выбирал в марте 1918 года подходящее в Москве место для ЧК. Выбрал Лубянку, куда потом угодил и сам. Таких сломанных судеб в этом доме десятки. Благодаря роману Трифонова существует теперь в Доме на набережной музей, открытый на общественных началах в ноябре 1989 г. Он рассказывает о людях, живших в этом Доме и причастных к сотворению новой истории.
Мы же перейдем на другой берег и окажемся возле Кремля. В Кремле не только решались такие эпохальные вопросы, как выбор очередного вектора движения страны, но и жили сами вожди после переезда правительства в Москву весной 1918 года. У нас никогда не было принято освещать их личную жизнь, ибо она приоткрывает завесу над тем, что простым смертным знать не положено. Только избранные попадали в музей-квартиру Ленина в бывшем здании Сената, где все дышало историей, а других имен среди жильцов Кремля и не упоминалось, как будто они жили где-то в простых московских квартирах.
На заседании Малого СНК 19 июля 1918 г. было решено выселить из Кремля в семидневный срок всех лиц, не служащих в советских учреждениях (читай: монахов и т.п.), разрешив взять с собою только личные домашние вещи, а освободившиеся помещения предоставить для жилья советским служащих. В перенесении «так называемых мощей» и вообще церковного имущества отказать[fn] Русская православная церковь и коммунистическое государство. М., 1996. С. 39. [/fn]. Еще в марте с душераздирающей просьбой обращались лично к Ленину члены Братства московского святителя Алексия, предчувствуя нависшую над святынями Москвы смертельную опасность: «Товарищ Ленин! Вам дороги тела и могилы павших за социализм… и нам бесконечно дорога гробница и мощи нашего духовного вождя… Пусть же в свободной России не будет отвратительного насилия неверующих над тем, что дорого и свято сердцам верующих. Молим святителя Алексия, этого святителя любви, чтобы он коснулся Вашего сердца…» Резолюция Ленина: «Прошу не разрешать вывоза, а назначить вскрытие при свидетелях». Здесь Ленин напишет свое знаменитое секретное письмо для Политбюро от 19 марта 1922 г. с целой программой уничтожения православного духовенства и изъятия церковных ценностей. Большинство из новых «постояльцев» Кремля жило по иронии судьбы в бывшей Детской половине Большого Кремлевского Дворца на бывшей Дворцовой, ныне Кремлевской улице. Она и сейчас закрыта для посетителей Кремля. Тогда улица была выложена булыжником, по трамвайным рельсам ходили платформы с дровами.
Квартиры в Кремле тогда были немаленькие. Например, Свердлов поделился, отдав целых три комнаты семье Рыкова, заменившего со временем Ильича на посту председателя СНК. Дома обычно не готовили: мамы работали, а домработницы не упоминаются. Бегали с кастрюлями по улице в кремлевскую столовую.
В Кремле находились и кабинет (с 1936 года), и квартира Сталина.
Рядом с Кремлем находился и штаб мировой революции, на нужды которой шли музейные ценности. Около Троицкой башни сохранилось здание, чей адрес был известен тогда коммунистам всего мира. Смешное название: Сапожковская площадь, дом 1. До революции здание принадлежало кн. Григорию Гагарину и приносило ему доход: квартиры сдавались в наем. Рядом находился популярный среди москвичей и охотнорядцев кабак «Сапожок», по нему и стали называть маленькую площадь за Манежем. Это грандиозное творение Осипа Бове, в котором умещался даже гараж сталинских машин, сначала тоже хотели взорвать, чтобы открылся широчайший проспект к Дворцу Советов. К счастью, этого не случилось. Коминтерн, или Коммунистический интернационал, организация всех компартий мира, размещался в доме по соседству. Он был создан в 1919 году. По предложению Ленина возглавил новую организацию с мировыми претензиями один из самых популярных тогда партийцев Григорий Зиновьев.
2-ой Конгресс Коминтерна заседал в Москве. Жили делегаты в прекрасной гостинице «Деловой двор» рядом с Варваркой, на заседания ходили в парадные залы бывшего императорского Кремлевского дворца. После политического поражения в декабре 1925 года Зиновьева «его проконсульский профиль» исчезает из кабинетов Коминтерна. Следующая жертва – Николай Бухарин возглавил эту организацию, которая в буквальном смысле плела заговоры по всему миру, устаивала демонстрации, восстания. С 1929 – верный сталинист Молотов. По воспоминаниям Сержа, уже в середине 1920-х в Интернационале стало нечем дышать, начались исключения из компартий. Некоторые сами сдавали билеты и уезжали. Оставались самые сговорчивые или беззаветно преданные. Но ни тем, ни другим не было гарантирована в будущем жизнь и свобода. Так случилось и с Бела Куном, единственным человеком, в честь которого на здании бывшего ИККИ установлена мемориальная доска. Оказавшись в русском плену еще в годы империалистической войны, он начал революционную карьеру. Летом 1918 г. возглавил интернациональный отряд при подавлении левоэсеровского мятежа в Москве. Был послан в Венгрию и в 1919 году встал у руля власти, когда страна мирным путем стала республикой. Как ее руководитель допустил много ошибок, проводя даже репрессии в своей партии. В 1936 году Кун был отстранен от работы в ИККИ, а в 1937 – репрессирован.
Еще хотелось бы вспомнить удивительную, фантасмагорическую судьбу мальчика, который не был членом Коминтерна, но пострадал за принадлежность к компартии своих родителей. И их непроходимую наивность. В середине 1930-х годов в угольный Саар приехал «неистовый» советский журналист М. Кольцов. В одной немецкой деревушке в семье коммуниста ему приглянулся 10-летний пионер Губерт Лосте. И Кольцов придумал перенести мальчика, как в сказке, в чудесную страну пионерии, где умеют «лучше всех смеяться и любить». Родители согласились отпустить сына на год. Подруга Кольцова антифашистка Мария Остен написала книгу «Приключения Губерта в стране чудес». Но из «страны чудес» не так просто вернуться. Губерт остался здесь навсегда. В декабре 1938-го исчез и сам Кольцов. А когда из Парижа в 1940 году приехала Мария с запоздалым намерением спасти своего друга, то тоже «осталась» здесь навеки. И была посмертно реабилитирована в 1955 году. Тогда же реабилитировали и Губерта, в полной мере познавшего все варианты чудесных превращений: из немецкого школьника в советского пионера, из пионера в зека, потом в рабочего совхоза на берегу Крыма. Туда, в «Солнечную долину» наконец приехала его мать, которая более двадцати лет (!) не видела сына, отпустив его погостить в СССР на один год.
Недалеко от здания Коминтерна в Охотном ряду чудом сохранился среди других безжалостно снесенных в годы «реконструкции Москвы» прекрасный памятник, один из красивейших домов в Москве, когда-то самый высокий на этой улице – дом Благородного собрания. Построен этот особняк был в конце ХVIII века непревзойденным мастером русского классицизма Матвеем Казаковым для губернских собраний московского дворянства. С октября по апрель здесь устраивались знаменитые балы и маскарады. До трех тысяч человек вмещал знаменитый бело-золотой Колонный зал с великолепной акустикой. Недаром европейские музыкальные знаменитости включали его в свои гастрольные маршруты.
В ноябре 1918 года в этот дом въехал Московский Совет профсоюзов. Так появилось новое название «Дом Союзов». Казаковский зал затянули красным сукном, на сцене поставили бюст Карла Маркса. На этой сцене 50 раз выступал Ленин. В Доме Союзов проводились конференции, слеты и съезды различных организаций: от Красного Профинтерна до слета уборщиков и уборщиц всей страны (1941 год, две тысячи представителей). О собрании организации, призванной помогать зарубежному пролетариату оставила воспоминания Елена Боннэр, попавшая сюда случайно девочкой: «Это собрание разрушило все мои представления о деятелях МОПРа, уж очень они были все респектабельные, хорошо одетые и упитанные. И хотя они вспоминали о своих мучениях в разных прошлых и существующих застенках неведомых заграниц, но их облик и даже манера говорить как-то не совпадали с изможденным лицом, смотрящим на значке МОПРа, которые ребята носили в те времена. А уж ужин! Таких закусок я в жизни не видела, впервые попробовала там ананасы, фигурные шоколадные конфеты в невероятных размеров коробках…» [fn] Боннэр Е.Г. Дочки-матери. М., 1994. С. 65. [/fn].
Здесь перед народом нередко выступали самые известные люди. Продолжала временами звучать в старинном особняке музыка: концерты Шаляпина, Обуховой, Собинова – и даже оркестра революционного отряда латышских стрелков. Возрождались «буржуазные праздники», вернулась советским детям Новогодняя елка, здесь она устраивалась с середины 1930-х годов. В 1938 году – самая грандиозная под названием «Пионерский костер». Здесь уже два раза пылали к этому времени «костры инквизиции», и приговаривались к смерти люди. Сверкающий зал Благородного собрания под названием Октябрьский становится местом страшных судилищ.
«Это были грандиозные спектакли, с которыми не могли соперничать постановки ни Больших, ни Малых театров. Здесь все было по-настоящему. В лучших традициях были задействованы огромная массовка и сами зрители. Они толпились у стен Дома Союзов и соседней Прокуратуры СССР. Когда-то там находился МК партии и рабочий кабинет «любимца московских рабочих и метрополитеновцев Лазаря Кагановича» [fn] Серж В. От революции к тоталитаризму. Воспоминания революционера. М., 2001. [/fn]. Теперь здесь кричащие, возбужденные люди требуют казни. Внутри у проходящей мимо девочки Люси Боннэр все дрожит, как перед экзаменом или перед операцией.
Главная сцена – Октябрьский зал, где стол затянут красной тканью, монументальные кресла судей, трибуна обвинителя, рослые охранники, поникшие обвиняемые. Первый показательный процесс над «троцкистско-зиновьевским объединенным центром» состоялся в бывшем Благородном собрании в августе 1936 года. Среди семерых подсудимых главными обвиняемыми были ближайшие соратники Ильича Л.Б. Каменев, бывший первый председатель ВЦИК и Моссовета, благообразный человек с седой бородкой, женатый на сестре Троцкого и Г.Е.Зиновьев, вернувшийся из эмиграции вместе с Лениным в пломбированном вагоне. Уже в январе 1937 года состоялась новая «премьера»: по делу «параллельного троцкистского центра» обвиняемых предстали во главе с «международным коммунистом» Карлом Радеком, Г.Я. Сокольниковым и Г.Л. Пятаковым.
Расправы, похожие на инквизицию, вызвали в Европе шок, в ее прессе появилось слово «террор». В СССР были приглашены два писателя с мировыми именами, чьи репутации честных художников слова не вызывали сомнений. Один из них, Леон Фейхтвангер, писатель-эмигрант, уже потерявший родину, даже присутствовал на втором процессе и написал книгу «Москва. 1937 год». Эта книга – пример лжи во имя спасения от грядущего фашизма. Выбирая одно из двух зол, Фейхтвангер решил оправдать второе. Совсем другим была книга Андре Жида, еще не нобелевского лауреата, но уже живого классика, также приехавшего в Россию летом 1936 года, остановившегося в столице, когда уже были вынесены смертные приговоры по первому процессу. Увиденное потрясло писателя, и он, отдавая себе отчет в последствиях, не только изменил свое мнение о стране Советов, но и написал правду и потерял много друзей. Его книга, запрещенная у нас, называлась «Возвращение из СССР».
С 1924 года именно Благородное собрание было избрано местом для гражданского прощания народа со своими любимцами. «Бывших любимцев» сюда привозили для осуждения на смерть, мертвых – для отдания последнего долга, после чего следовала «канонизация».
Впервые «доступ к телу» или гражданское прощание состоялось здесь в марте 1919 года с умершим от «испанки» Я.М. Свердловым, председателем ВЦИК. В январе 1924 – уже с самим вождем. «И потекли людские толпы, неся знамена впереди, чтобы взглянуть на профиль желтый и красный орден на груди» (В. Инбер). Пятеро суток стояла в Дом Союзов на жестоком морозе нескончаемая очередь. Горели костры. Индевели часовые и всадники. Вероятно, это было грандиозное зрелище, несколько напоминающее языческий обряд. «Точно свинцовая туча окутывала историю смерти Ленина. Все избегали разговоров о ней, как если бы боялись прислушаться к собственной тревоге. Только экспансивный и разговорчивый Бухарин со своей испуганной улыбкой делал иногда странные намеки», – написал Троцкий об этих днях[fn] Троцкий Л.Д. И. Сталин. Опыт характеристики // Осмыслить культ Сталина. М., 1989. С. 646. [/fn]. В любом случае было чего бояться: после смерти вождя неизбежно наступали другие времена. Над гробом Ленина Сталин прочитал по бумажке клятву верности заветам учителя.
Через девять лет настал день, когда сюда пришли прощаться с Кировым – это называлось «доступ к телу». Теперь уже откровенно поникли головами многие, страшные предчувствия сжимали сердце. «Мы не простим», – запестрели заголовки газет. По старой Дмитровке было не пройти: как на похоронах Ленина, было также много людей и также холодно. С 1 декабря 1934 года для многих начался новый отсчет времени, времени массового террора. Да и обвиняемым всех трех показательных процессов обязательно предъявляли обвинения в подготовке убийства Кирова.
В 1936 году на траурном катафалке в заваленном цветами траурном Колоном зале прощались с «великим писателем, основоположником и родоначальником советской литературы и метода социалистического реализма» А.М. Горьким. «Нескончаемый поток, почти все плохо одеты… Молчаливая, мрачная, сосредоточенная колонна» [fn] Жид А. Возвращение из СССР. М., 1990. С. 69. [/fn].
Не перечислишь всех, кто лежал среди живых людей в последний раз в этом доме: Дзержинский, Менжинский, Ворошилов, Буденный. Целую книгу можно написать об этом московском особняке – «Дом большой судьбы». Но мы вспомним напоследок только еще один факт его биографии: похороны Сталина. Его смерть потрясла нашу страну до основания: люди искренне не знали, как жить дальше. Мы же записали рассказ одной старушки, которой чудом удалось спастись на Бульварном кольце. Вдоль ограждения самих бульварных аллей вплотную стояли грузовики с солдатами, к одному из них ее и прибило. Солдат встретился с ее наполненным ужасом взглядом, вдруг нагнулся, схватил за длинные косы и буквально перекинул через грузовик на аллею. Там было совершенно пусто, она долго лежала на земле, приходя в себя, а вокруг кричали от боли и страха люди. Среди наблюдавших за происходящим с крыши гостиницы «Националь» был Владимир Буковский, тогда еще совсем не правозащитник, а просто московский мальчишка из соседних переулков. «Ощущалось что-то жуткое в этой необъятной, молчаливой, угрюмой толпе. Люди гибли в давке, по толпе, как по морю, ходили волны. Долго потом по улице Горького валялись пуговицы, сумочки, галоши. Даже львам на воротах Музея революции кто-то втолкнул в пасть по галоше.
И мы уходим на улицу, которая с 1935 года, то есть еще при живом классике стала называться его именем, вернее литературным псевдонимом – улицей Горького. Ошеломленный Пришвин не верил этому, пока не увидел собственными глазами. «Все кругом острят, что памятник Пушкину есть имени Горького», – записал он в своем дневнике[fn] Колодный Л. Москва в улицах и лицах. М., 1999. С. 228. [/fn]. Она же первой в центре города практически полностью потеряла свое лицо. Глава города Каганович, во всеуслышанье заявил, что «Москва – это город пьяного сапожника», столь кривы и безобразны ее улицы. Теперь все будет по-другому: после «коренной перепланировки и решительного упорядочивания» на широких проспектах полной грудью вздохнут трудящиеся столицы. Тверская улица сполна хлебнула сталинской реконструкции. Но в 1930-е годы улица была еще неширокой, чем-то похожей на Невский, по ней ходили трамваи.
В соседнем доме на углу еще можно было купить в частном кафе взбитые сливки. «У последнего нэпмана» – тоже московская шутка тех лет. Дом № 10. Когда-то здесь находилось главное заведение знаменитых булочников Филипповых. До революции хозяева все же успели отстроить верхние этажи и открыть здесь гостиницу и ресторан. Об этой гостинице, бывшей «Люкс», а ныне «Центральная», мы и хотим рассказать. Подъезд, облицованный серым мрамором, в вестибюле зеркала и картины, швейцары, лифты, лестница с красным ковром, красивая мебель, бронзовая собака «Тут даже красивей, чем в «Астории», как во дворце!», – воскликнула девочка, приехавшая сюда жить из Ленинграда[fn] Боннэр Е.Г. Дочки-матери. М., 1994. С. 92. [/fn]. Родители девочки были «ответственные партработники». И этот дом, гостиница «Люкс» был непростой: служебная жилплощадь для важных начальников, иностранных товарищей по борьбе (коминтерновцев), около пятисот «номеров». Сейчас здесь мало, кто помнит о разыгравшейся здесь трагедии в конце 1930-х годов, когда репрессиям подверглись члены братских партий, зачастую уже лишенных родины, которым некуда было спрятаться или уехать.
«Заводы, вставайте, / шеренги смыкайте! / На зов Коминтерна весь мир собирайте! / Два класса столкнулись в последнем бою, / Наш лозунг – Всемирный Советский Союз!»
А тогда в этом доме жили те, кого коротко называли одним словом «Коминтерн». Сам Исполком организации Коммунистического Интернационала находился в 10 минутах ходьбы. И все же за некоторыми жильцами коминтерновского дома приезжала служебная машина, как, например, за отцом Люси Боннэр Геворком Алихановым, крупным работником Коминтерна. Жили здесь в основном иностранцы, много одиноких мужчин. В столовой можно было брать обеды на дом, на кухне – газ, душ на этаже. Тогда это было большой редкостью. Паркетные полы каждую неделю натирали полотеры. В комнатах – красивая мебель, бархатные диваны и кресла, такие же занавески. «Маму и папу не волновало то, что вообще-то эта мебель не наша, а казенная, и на каждой вещи прибита овальная табличка с номером» [fn] Боннэр Е.Г. Дочки-матери. М., 1994. С. 105. [/fn]. Маме вообще не нравилась эта роскошь, Но мама с папой и не верили рассказам своей домработницы Нюры о том, как живут ее сосланные родители-крестьяне: от голода пухнут, «хоть землю ногтями ковыряй». Судьбы этих «второсортных москвичек» весьма характерны. Бежавшие от раскулачивания крестьянские девушки.
«Мне стыдно об этом писать, но я совсем не помню карточной системы тех лет. Видимо, мы жили так, что… проблемы сытости или голода у нас не было. Я помню пайки. Папин паек приносили домой. В нем было масло, сыр, конфеты, консервы. Были еще предпраздничные пайки. Там была икра, разные балыки, шоколад. За маминым пайком надо было ходить раз в неделю в столовую МК… он был значительно проще», – вспоминала Е. Боннэр[fn] Боннэр Е.Г. Дочки-матери. М., 1994. С. 118. [/fn]. Эти пайки, в том числе и предпраздничные еще помнят наши бабушки. Ими спустя 60 лет после революции отмечали ветеранов, участников и пр. Там тоже были сыр, масло, сгущенка, консервы. Оказывается, такие простые продукты надо было еще заслужить!
Вход в этот дом был строго по пропускам, даже для гостей. «Я стала замечать, что все, приходящие в наш дом тяготятся «люксовской» пропускной системой» [fn] Боннэр Е.Г. Дочки-матери. М., 1994. С. 75. [/fn]. А в гостинице «Люкс» даже у детей существовало очень четкое классовое разделение по положению родителей, хотя они и бегали вместе по длинным коридорам гостиницы, играя в прятки и салочки. «Многие дети, самовольные и капризные, были уже глубоко поражены собственным величием, психологией наследников, у половины родители были вожди какой-нибудь компартии, члены ЦК или ИККИ… они как-то до срока чувствовали себя вождями. Этим детям – за редчайшим исключением, так никогда и не вышел срок, чтобы выйти в вожди» [fn] Боннэр Е.Г. Дочки-матери. М., 1994. С. 153. [/fn].
Первый звонок для обитателей «Люкса» прозвенел в дни убийства Кирова, когда все сами стали похожими на убитых. Потемневший, сгорбленный папа, беспрерывно звонящий телефон и молчание заходивших соседей. «Из тех, кто в кировские страшные ночи был у нас дома, погибли все мужчины!» [fn] Боннэр Е.Г. Дочки-матери. М., 1994. С. 179. [/fn]. Погибли не сразу, но оставшиеся на свободе годы стали для них годами ожидания. Больше папины друзья не выглядели беззаботными, радостными и напористыми. Они не сидели за веселым чаем или вином, а уходили негромко разговаривать в отдельную комнату. Теперь пришла их очередь…» А зимой 1936/37 года в «Люксе уже каждую ночь шуровали группы военных, приходящих арестовывать, и были слышны их громкие, хозяйские шаги. На лицах всех живущих был отсвет обреченности. И у папы такой же… И было похоже на игру. И было так страшно… «оно» уже идет к нам» [fn] Боннэр Е.Г. Дочки-матери. М., 1994. С. 247. [/fn]. На дверях квартир появились большие красно-коричневые печати (как символично!). Притихли все дети, даже еще не переселенные. «Иногда возникало такое ощущение, что все в красавце «Люксе» попрятались, как мыши» [fn] Боннэр Е.Г. Дочки-матери. М., 1994. С. 268. [/fn]. Но именно этому поколению предстояло через двадцать лет осознать, что они «разлюбили эту власть» и подчиняются ей только по необходимости. Сделать первый шаг в сторону, стать не как все, шаг к своему гражданскому достоинству.
Так уж получилось, что с движением за права человека в центре Москвы особенно связаны места возле двух памятников – Пушкину и Маяковскому.
Прогуляемся между этими памятниками по тихим московским переулкам. В 1940-1950-е годы здесь жил мальчик, ставший одним из главных организаторов литературных чтений «на Маяке» и почти «главным диссидентом страны». Исчезли прежние маленькие деревянные домики, еще тогда обреченные на снос, исчезла прежняя коммунальная жизнь. Теперь здесь элитные квартиры. А тогда даже в центре столицы социалистическая молодежь росла «среди обычных скандалов, мата и поножовщины. Голубятня, водка и воровство так или иначе занимали почти всех из нас» [fn] Буковский В.К. «И возвращается ветер». М., 1990. С. 68. [/fn]. Изгоями были «недобитые интеллигенты», жалкие и никчемные: «Интеллигентность и вежливость стали неконкурентноспособными в столкновении с хамством, подлостью и грубой силой» [fn] Буковский В.К. «И возвращается ветер». М., 1990. С. 65. [/fn]. Вокруг после успешно осуществленной «культурной революции» процветала «пролетарская культура».
Однако все же упорно, «словно тяжелые тучи, ползли слухи о расстрелах, пытках, миллионах замученных в лагерях. Удивительно, как быстро поверили в это люди, которые два года назад давились на похоронах Сталина. Казалось, они знали это всегда… Для моего поколения вопросы только начинались» [fn] Буковский В.К. «И возвращается ветер». М., 1990. С. 78. [/fn].
В 1950-е годы, как грибы, стали возникать подпольные союзы и группы, в основном – среди молодежи.
И возникла новая, полная надежд и ожиданий атмосфера. Стали происходить неслыханные вещи: фестиваль молодежи и студентов наполнил Москву веселыми иностранцами, появились импортные товары. Поистине открылось «новое окно в Европу», и оттуда повеял ветер перемен. «Москва преображалась на глазах: вместо уголовных трущоб с бандами подростков в сапогах и кепках с разрезом, возникал город, жители которого толпились в книжных магазинах, набивались в залы, где выступали поэты, ломились в театры, а из окон домов по вечерам неслись джаз и фокстрот» [fn] Буковский В.К. «И возвращается ветер». М., 1990. С. 107. [/fn].
Правда, комсомольцы продолжали бороться, вылавливая по вечерам стиляг в узких брюках и насильно отрезая им длинные челки. И все же культура возрождалась на улицах Москвы. Ее духовными вождями, вождями нового поколения стали не революционеры, а именно поэты. И собираться стали у памятника поэту Владимиру Маяковскому.
Памятник этот, к которому мы уже подошли, был открыт летом 1958 года (скульптор А.П. Кибальников). Сразу после торжественной церемонии открытия многие читали стихи, а потом стали собираться здесь регулярно. Нам кажется, что именно это совпадение – новый памятник и чтения на улице – определило тогда выбор места. Именно здесь стали собираться московские студенты, «создавалось что-то наподобие клуба под открытым небом» [fn] Буковский В.К. «И возвращается ветер». М., 1990. С. 110. [/fn]. Эта подозрительная самодеятельность была быстро прекращена властями. Тогда и выпала судьба Буковскому и его другу с сентября 1960 года эти чтения возобновить. Здесь не просто читали стихи, здесь открыто собирались единомышленники, для которых «новая нарождавшаяся культура стала единственной возможностью жить» [fn] Буковский В.К. «И возвращается ветер». М., 1990. С. 110. [/fn]. Жить по-прежнему они уже просто не могли. Долгое время эти несанкционированные чтения «на Маяке» были единственным «глотком свободы», может быть, даже во всей стране. «Сами чтения на Маяке притягивали все лучшее и самобытное… У нас паролем было знание стихов Гумилева, Пастернака, Мандельштама» [fn] Буковский В.К. «И возвращается ветер». М., 1990. С.1 11. [/fn]. Уже не подпольно распространяемое «Завещание» Ленина, а стихи, ведь свобода творчества подразумевала и многие другие свободы. Поэтому многие из тех, кто собирался тогда на чтения на этой площади, влились потом в движение за права человек в нашей стране. Сотни людей приходили сюда по вечерам, многие изумлялись смелости всего происходившего, даже будучи просто посторонними зрителями, которым, в общем, ничего не грозило.
И главное – настроение толпы было всегда на стороне выступающих, чтобы ни происходило на «Маяке».
В период подготовки к XXII съезду партии власти перешли в наступление. Начались аресты. Вокруг памятника по вечерам с бешеной скоростью носились снегоочистители, не давая людям подойти к нему. Многие из активистов «Маяка» временно переехали жить к знакомым. «И все же мы считали своим долгом отстоять Маяк. Каждое выступление оставляло невыразимое ощущение свободы, праздника и было что-то мистическое в этом чтении стихов ночному городу…» [fn] Буковский В.К. «И возвращается ветер». М., 1990. С. 119. [/fn]. Может, было бы даже справедливо назвать эту площадь Москвы в память о тех днях, о пробуждении людей площадью Свободы.
3 октября 1961 года арестовали всех активных участников поэтических выступлений. И все же 10 октября состоялись чтения у всех памятников центра города, а самые главные – у библиотеки им. Ленина, потому что там проходили после заседаний делегаты партийного съезда. Тот день стал последним, закончился «поэтический этап в медленном пробуждении нашего общества. Поэтов и чтецов увозили за их стихи в самый настоящий концлагерь» [fn] Буковский В.К. «И возвращается ветер». М., 1990. С. 124. [/fn]. Сами чтения официально запретили, а три человека были осуждены за них по статье «антисоветская агитация и пропаганда», получив пять и семь лет лагерей.
Чтения на Маяковке попытается возродить новая волна молодых поэтов в начале 1965 года. СМОГ – «Самое молодое общество гениев» уже будет издавать самиздатовские сборники, публиковать свои произведения за рубежом.
Они вместе составляли уже значительную силу, когда «произошло событие, имевшее чрезвычайные последствия: в сентябре арестовали двух писателей – Синявского и Даниэля» [fn] Буковский В.К. «И возвращается ветер». М., 1990. С. 185. [/fn]. В связи с этим событием нам придется пройти на Пушкинскую площадь столицы.
В 1937 году великого поэта вернули гражданам страны Советов. Сейчас трудно себе представить, что поэт за дворянское происхождение был исключен даже из школьной программы. В год «большого террора» его «реабилитировали». Через 13 лет однажды ночью памятник Пушкину без всяких объяснений покинет свое место на Тверском бульваре и займет собой унылое асфальтовое пространство на месте снесенного Страстного монастыря. Меньше километра по расстоянию отделяет Пушкинскую площадь от Дома Союзов, почти тридцать лет по времени от тех, других митингов и – целая вечность по уровню сознания. 5 декабря 1965 года здесь состоялась первая свободная демонстрация в Москве после 1927 года, когда оппозиционеры-троцкисты пытались выйти у гостиницы «Националь» со своими лозунгами. Приглашение на эту демонстрацию расходилось по самиздатовским каналам, по которым накануне распространялись запрещенные стихи. «Эти «каналы доверия» были самым большим нашим достижением за десять лет» [fn] Буковский В.К. «И возвращается ветер». М., 1990. С. 189. [/fn].
Через несколько месяцев после ареста Синявского и Даниэля среди определенного круга москвичей стала распространяться листовка с приглашением на митинг у памятника Пушкину 5 декабря в день конституции: «У граждан есть средства борьбы с судебным произволом. Это митинги «гласности…» [fn] Буковский В.К. «И возвращается ветер». М., 1990. С. 190. [/fn]. Впервые за многие годы вспомнили это забытое в русской истории слово. Единственными требованиями митингующих были гласность суда и уважение к собственной конституции. Во время митинга предполагалось строгое соблюдение порядка и законности во избежание провокаций.
«К шести часам вечера Пушкинская площадь представляла собой забавное зрелище», – вспоминает Буковский. Участники демонстрации до назначенного времени делали вид, что прогуливаются. Кто-то ради конспирации даже пришел с лыжами. Вокруг масса любопытных: о демонстрации было известно достаточно большому количеству людей. Среди толпы – гэбэшники. Человек двести сгруппировались у памятника поэту, который задумчиво глядел на них сверху, и подняли плакаты с упомянутыми выше требованиями. Их быстро сбили с ног, затолкали в машины, увезли в милицию. Пока на время. Однако «момент для протеста был выбран на редкость удачно. И к моменту открытия самого суда скандал разросся до глобальных размеров» [fn] Буковский В.К. «И возвращается ветер». М., 1990. С. 195. [/fn]. Суд состоялся 10 февраля 1966 года, первый показательный суд послесталинской эпохи. Как и раньше – при закрытых дверях и со специально подобранной публикой. Однако все почувствовали, что страна сменила ось своего движения: подсудимые не читали по бумажке приготовленные для них заранее следователями признания, не призывали идти вслед за мудрой партией, они вообще не признали своей вины. А у закрытых дверей суда стояла ДРУГАЯ ТОЛПА – толпа их единомышленников. «Из рук в руки переходили десятки тысяч тонких листочков папиросной бумаги с еле различимым машинописным текстом – последние слова подсудимых, которые не просили пощады… И это была наша гласность, наша победа» [fn] Буковский В.К. «И возвращается ветер». М., 1990. С. 196. [/fn]. Дело закончилось, как всегда, лагерем. И будут еще «кампании всенародного гневного осуждения», но главное – «лед тронулся, господа присяжные заседатели!» Через год здесь собрались вновь, без шапок, молча постоять пять минут в память жертв произвола, решив собираться так каждый год, тем более, что этих жертв становилось все больше. А Пушкинская площадь стала «тем пятачком, возле которого зародилось то удивительное содружество, впоследствии названное «движением», где не было руководителей и руководимых, не распределялись роли, никого не агитировали, …где каждый участвовал, понуждаемый только чувством собственного достоинства и личной ответственности за происходящее… Наши единственным оружием была гласность» [fn] Буковский В.К. «И возвращается ветер». М., 1990. С. 207. [/fn].
Видимо, неслучайно лозунг Горбачева о гласности сделал его столь популярным среди мировой общественности: о ней так давно мечтали.
Наш маршрут продолжается по Тверскому бульвару, где еще предстоит вспомнить некоторые выдающиеся имена, связанные с домом, в котором ныне расположен Литературный институт им. А.М. Горького.
Тверской бульвар – не только старейший, но и знаменитейший в Москве. Здесь что ни шаг, что ни дом – все история, о которой коротко и не расскажешь. И более всего историй здесь связано с литературой. На бульваре даже сохранился дуб, который помнит и Пушкина, и Грибоедова, и Льва Толстого, и маленькую девочку Марину Цветаеву, приходившую сюда по утрам на прогулку с няней. Сам бульвар понес за последние десятилетия значительные утраты. Так не уцелел дом, где Пушкин на балу впервые встретил Наталью Гончарову. Знаменитый дом Кологривовых понадобилось во что бы то ни стало снести. Долго, долго пустое место было огорожено забором, пока не выросла громада нового театра – МХАТ им. Горького
В 1920-е годы по городу часто развешивали плакаты «Все на книжный базар – на Тверской бульвар!». Главная аллея превращалась в сплошную торговую линию, где продавцами выступали сами авторы, артисты, журналисты. Непременно принимал участие в этой торговле Маяковский. Обратите внимание на дом № 25, о котором мы хотим рассказать. Большое владение принадлежало в начале XIX века дяде А.И. Герцена. Здесь и родился замечательный писатель – демократ, который тоже некоторых «разбудил». Сам писатель навсегда покинул Россию, а литературная история его родного дома продолжалась. Здесь были знаменитые литературные салоны, издательства, в после революции помещались различные писательские организации, в том числе пресловутая РАПП.
По-разному находили свою нишу в те страшные гнетущие годы писатели. И в этом доме, где ныне расположен Литинститут, переплелись очень непохожие друг на друга судьбы некоторых из них. Дело в том, что во флигелях дома № 25 после революции были писательские квартиры. Среди жильцов мы вспомним Б. Пастернака, О. Мандельштама и А. Платонова.
В правом флигеле этого дома некоторое время жила и семья Мандельштамов: в 1922–1923 и 1932–1933 годах. Вообще они были абсолютно бесприютны. В одной Москве на рубеже 30-х годов сменили более десяти адресов. Тверской бульвар, 25 – один из них, прожили здесь менее двух лет, до ордера на арест. По воспоминаниям Льва Гумилева, поэт, как безумно неприспособленный к жизни человек, вечно путался в Москве, «не знал, как пройти, куда ехать, путался даже в трамваях возле дома» [fn] Поляновский1 Э. Гибель Осипа Мандельштама. СПб, 1993. С. 150. [/fn].
Арестован он был в Москве 16 мая 1934 года. В те дни у поэта гостила А. Ахматова. В ее «Листках из дневника» мы находим и описание этого ареста: «В наши притихшие нищие дома они входили, как в хазу, где собираются оказать вооруженное сопротивление… Обыск продолжался всю ночь, искали стихи (даже вспарывали корешки книг –Авт.). Мы все сидели в одной комнате, было очень тихо… Следователь при мне нашел «Волка». Прощаясь, Мандельштам поцеловал меня. Его увели в семь утра» [fn] Поляновский1 Э. Гибель Осипа Мандельштама. СПб, 1993. С. 77. [/fn].
Много лет Андрей Платонов жил во флигеле Дома Герцена и был знаком очень узкому кругу коллег. За многие годы безмолвия остальные его забыли. Во дворе литинститута Платонова можно было увидеть с деревянной лопатой, в кроличьей потрепанной шапке и старом пальто. Конечно, не всегда посмертная слава находит человека. Однако с Платоновым именно так и случилось: истина восторжествовала, сегодня его сравнивают с Достоевским. Чудесным образом, Платонов умер не в лагере, а своей смертью в 1951 году.
Наш путь дальше по бульвару, к Никитским воротам. Пройдем соседний дом, где находился когда-то знаменитый Камерный театр Таирова с блистательной Алисой Коонен. В конце 1940-х годов театр пал «жертвой административного произвола», режиссер, не выдержав удара, скончался.
Теперь мы спускаемся вниз по Никитской улице. Осталось название, нет монастыря, по которому улица когда-то получила свое имя. Никитский женский монастырь примыкал некогда к страшному Опричному двору Ивана Грозного. Монастырь основал дед первого из династии Романовых Никита Романович. В переулок, которому вернули древнее название, мы и направляемся. Но прежде несколько слов об утратах исторических памятников, мимо которых проходит наш маршрут. Монастырь этот пережил за сотни лет много напастей и был уничтожен в мирные дни «безбожной пятилетки», в 1935 году. Закрыли его, конечно, еще раньше, а потом разобрали и стены. Теперь здесь подстанция московского метрополитена (арх. Фридман), неприятное серое здание с несколько странными фигурами рабочих. Вместо того, чтобы копать, они, подняв руки, не то зовут куда-то, не то голосуют. Здесь мы поворачиваем в переулок, который в советское время назывался улицей Грановского в честь профессора всеобщей истории Московского университета, Бог знает почему приглянувшегося большевикам. В первые десятилетия после революции этот переулок назывался Шереметевский по фамилии именитых домовладельцев, а также когда-то Разумовский. Теперь вернули ему самое древнее название – Романов. На этой маленькой улочке со столь громкими названиями находился дом партийной элиты – пятый Дом советов. Ныне его украшают многочисленный мемориальные доски, но доски об интересующих нас людях нет. Да это и понятно, хотя бы потому что один из них здесь не жил, а был арестован – Лев Троцкий. Событие значительное для нашей истории. Интересное совпадение: с лидером оппозиции расправились рядом от того места, где взошла звезда Сталина. Но к «сталинскому» дому мы подойдем чуть позже. Впрочем, центр Москвы небольшой, а дальше центра вожди не уезжали. Дальше их уже высылали, как случилось и с Троцким.
В начале ноября 1927-го последнее выступление Троцкого в ЦК прерывалось бесконечными выкриками. 15 ноября Троцкий, Зиновьев и их главные сторонники были сняты со всех постов и исключены из партии «за вольнодумство». Один из оппозиционеров назвал это «сухой гильотиной». Все они должны были покинуть кремлевские служебные квартиры. О некоторых из них мы уже упоминали. «Троцкий, обманув слежку, незаметно переехал. Целый день ГПУ мучилось, охваченное комическим страхом…» [fn] Серж В. От революции к тоталитаризму. Воспоминания революционера. М., 2001. С. 275. [/fn]. Странно, ведь переехал он прямо по соседству – на улицу Грановского к единомышленнику Белобородову[fn] Александр Георгиевич Белобородов был членом партии с 1907 года, то есть с 16 лет. В 1917-ом – уже член Уральского обкома. В 1918-м как председатель Уральского облсовета подписал решение о казни императора Николая II и его семьи. Было тогда этому председателю 27 лет. Потом он подавлял Вешенское восстание казаков, сражался на Кавказе, в 1920-е годы был даже наркомом внудел. В Москве этот человек, приговоривший к казни последнего Романова, жил в переулке, где некогда находился двор основателя этой династии. Белобородов с 1923 года был троцкистом, поэтому и обратился к нему глава оппозиции. Вскоре после ареста Троцкого хозяин квартиры был исключен из партии и сослан. Он знал это и, как многие оппозиционеры, был сначала непреклонен. Как и многие из них, быстро начал каяться. В 1931 году его возвратили на хозработу, послав опять на Дон. Но в 1936 арестовали за «троцкистский терроризм» и через два года расстреляли. [/fn].
Но тогда все еще было впереди, и Троцкому предложили «по своей воле» уехать в Алма-Ату. Он отказался от лицемерной сделки и тогда получил в этом доме предписание ГПУ о высылке в административной порядке по ст. 58 УК за контрреволюционную деятельность. Для того, чтобы событие получило резонанс, Троцкий решил сопротивляться. Его товарищи сутками следили за улицей и домом, сами находясь под наблюдением чекистов. За несколько дней до высылки Троцкого посетил здесь Виктор Серж, тогда единомышленник и верный соратник. Воспоминания его в этом отношении бесценны. Ведь никто больше из присутствовавших тогда в эти дни в квартире Белобородова не выжил и не написал воспоминаний, кроме Троцкого, разумеется. Дверь охраняли свои товарищи. «Старик» принял меня в маленькой комнатке, где стояли только кровать и стол, заваленный картами всего мира… бодрый и высокий, с пышной, почти седой шевелюрой и нездоровым цветом лица. Он, как зверь в клетке, маялся беспокойной энергией» [fn] Серж В. От революции к тоталитаризму. Воспоминания революционера. М., 2001. С. 282. [/fn]. В соседней комнате снимали копии с его последних посланий, в столовой толпились товарищи из разных городов. Беспрерывно звонил телефон. «В любой момент всех могли арестовать. Мы решили извлечь пользу из этих последних часов, ибо это были воистину последние часы» [fn] Серж В. От революции к тоталитаризму. Воспоминания революционера. М., 2001. С. 282. [/fn]. Чуть позже «Старик», как между собой звали Троцкого его друзья, позволил взломать гэпэушникам дверь, отказался идти – его выносили буквально на руках до машины. В общем, это был страшноватый, но спектакль. «Известия мелким шрифтом сообщили о его ссылке» [fn] Серж В. От революции к тоталитаризму. Воспоминания революционера. М., 2001. С. 282. [/fn]. С этого времени легендарный председатель РВС, железной рукой ковавший Красную армию, появлялся только в виде карикатур. Его куклу проносили демонстранты на Красной площади: фигура беспрерывно кланялась и чистила фашистские сапоги. Так что это – его последняя «московская квартира».
На одном из московских процессов Троцкого заочно приговорят к смерти. Вполне реально приговор будет приведен в исполнение в далекой Мексике, Не станет ни Троцкого, ни названных в честь него городов (Гатчина и Чапаевск), уйдут в небытие Зиновьевск и Рыково вместе самими носителями фамилий.
Далее перед нами лежит Воздвиженка, на которой сохранился дом № 5. Дом, где располагался в начале 1920-х годов секретариат партии, и начинал свое восхождение Иосиф Сталин. Эта многострадальная, особенно по случаю ближайшего расположения к Кремлю, улица до сих пор несет свои потери. Исчезают ее памятники. Крестовоздвиженский монастырь, по которому улица названа, разобрали еще в 1934 году вместе со знаменитым барочным собором, в котором венчался Салтыков-Щедрин, а у стен покоились знатные москвичи. Настоятеля собора о. Александра (Сидорова) еще раньше отправили в лагерь, где он и был убит в 1931 году Теперь на месте монастыря «вечная стройка». Говорят, что это шахта Метростроя,. В 1984 году разобрали дом рядом (быв гостиница «Америка») с обещанием восстановить.
Стоит пока дом № 5, по московской легенде – дом Пьера Безухова. Сюда в 1920 году перебрался из соседнего дома разросшийся аппарат ЦК, в дом бывшей Казенной палаты, которая ведала финансами Москвы. Сейчас трехэтажное здание одето в безобразный серый каменный мешок, как и дома напротив. Мы разговаривали с работниками музея архитектуры им. А.В. Щусева, который занимает сейчас этот дом. Они знают о сохранившемся здесь кабинете Сталина, но эта комната всегда закрыта, ее никто из нынешних сотрудников не видел. На стене дома – мемориальная доска о том, что здесь в 1920–1923 годах находился секретариат ЦК и выступал Ленин. Работали здесь 350 сотрудников, из них 250 беспартийные (технические должности). Возглавляли аппарат несколько человек – секретари: Н. Крестинский, Е. Преображенский, Л. Серебряков, В. Куйбышев. Кроме одного, все падут смертью оппозиционеров от руки генсека. Так 10 апреля 1922 года в бывшей Казенной палате у Сталина появился свой скромный кабинет. На работу он ходил сюда пешком из Кремля, без охраны, на улице мало, кто знал его в лицо. Ведь только осенью 1922 года в газетах впервые появятся фотографии будущего вождя.
Историческое совпадение: именно на этом месте некогда располагался Опричный двор Ивана Грозного.
Сразу после революции Воздвиженка стала правительственной улицей. В бывшей гостинице «Петергоф» разместился 4-ый Дом Советов. Здесь до смерти Свердлова располагался ЦК партии, находился одно время кабинет А. Рыкова, «интеллектуала в поношенном костюме-тройке», в честь которого появился и город Рыков и даже водка «Рыковка», получившая это неофициальное название поскольку именно при нем была введена в продажу поле «сухого закона». Поселились здесь и видные большевики, не уместившиеся в Кремле. В том числе и дочь известного петербургского адвоката, она же внучка знаменитого архитектора и племянница известного критика, носившая громкую в русской истории фамилию Стасовых – Елена Дмитриевна.
Эта «железная женщина» была единственной из членов ЦК 1918 года, кроме Сталина, которая пережила все чистки и «переломы», великие и малые, и умерла в глубокой старости в Доме на набережной, где имеется посвященная ей мемориальная доска.
А на этом доме № 4 доска посвящена М.И. Калинину, которого Троцкий с большой долей иронии назвал когда-то «всесоюзным старостой». Так именуют Калинина до сих пор. Здесь находилась его приемная, куда с последней надеждой стремились родственники осужденных. Они не знали, как очень долго и все остальные, что супруга самого «старосты» в лагере.
Калинина помнят по тому, как он бесконечно прикреплял ордена на грудь всем героям, еще на слуху бывшие названия начинавшегося здесь проспекта и станции метро его имени. Но уже нет по соседству музея Калинина, убран одновременно с памятником Дзержинскому и памятник «всесоюзному старосте». Теперь на этом месте коммерческий магазинчик и провал вместо знаменитого Военторга.
Рядом высится громада дома № 6 – из дворца графов Шереметьевых он превратился в правительственную больницу – Кремлевку, о существовании которой здесь не говорит никакая вывеска. Не только с графами, но и их домом расправились соответствующим образом. В 1931 году на дворец был одет «серый каменный мешок» в стиле конструктивизма. Одно время велись слабые разговоры по поводу возвращения зданию первоначального облика. Но до этого очень далеко. Хорошо еще, что оно сохранилось каким-то образом внутри, это оставляет надежду. В этой больнице всегда работали самые лучшие врачи. Некоторые из них побывали на скамье подсудимых в качестве «кремлевских отравителей». Но в зловещем 1952 году над всеми ними нависла смертельная угроза в связи с готовящимся «делом врачей». В страхе ожидали новых «процессов над ведьмами». Однако Сталин, посадивший в тюрьму своего лечащего врача, умер сам. С того дня страна медленно, как огромный с пробоинами корабль, стала менять свой курс.
В заключение мы направляемся в Новоспасский монастырь, ставший одним из мест расстрелов после революции.
Монастырь расположен недалеко от станции метро «Пролетарская», на улице Большие Каменщики.
Когда-то сюда переселили много людей этой профессии для строительства обители.
Знаменитый монастырь и сегодня является ставропигиальным, патриаршим подворьем. А в прошлом здесь, в подклете главного собора находилась усыпальница бояр Романовых. Поэтому он входил в число особых придворных обителей. В 1918 году монастырь был закрыт и превращен в один из первых концлагерей Москвы. В послереволюционной России среди мест этого лишения появляются «лагеря принудительных работ», или, как их иногда называли, «концентрационные лагеря». Создание лагерей предусматривалось сначала в больших городах или вблизи них: в усадьбах, поместьях, монастырях. Летом 1918 года такой лагерь был организован в стенах древнего монастыря. Среди заключенных помимо уголовников было много деятелей культуры, искусства, женщин, в том числе одна из дочерей Л.Н. Толстого, вероятно, как представитель обреченного класса. Освобожденная под подписку с помощью друзей, она эмигрировала из России и стала основательницей знаменитого Толстовского Фонда.
Отчеты коменданта лагеря позволяют представить картину разрухи, ужасных условий содержания: в стране шла Гражданская война. Это приводило к побегам. За них в случае поимки срок увеличивали в десять раз. Содержавшиеся в лагере уголовники не брезговали разграблением могил монастырского некрополя: здесь издавна хоронили представителей русской знати. Этот некрополь (Новое кладбище), как и в других монастырях, со временем вовсе исчез. Остатки надгробий, выловленные на дне соседнего пруда, сиротливо стоят ныне вдоль монастырской стены. Не найдем мы теперь многих знаменитых могил, в том числе и графа С.Д. Шереметьева, последнего предреволюционного представителя древнего рода. Его дед Николай Петрович, чей двухсотлетний юбилей недавно отмечался в столице, и в нашем Восточной округе были даже развешены по этому случаю гигантские плакаты, создал лучший в России, достигший профессиональных высот крепостной театр. А в этом монастыре над могилами родителей граф выстроил Знаменскую церковь, которая сейчас находится в ужасном состоянии. Но зато ее облик, «обугленный» от соседства угольных запасов монастыря, как нельзя лучше подходит к тем страшным страницам истории, о которых мы хотим рассказать. Между Знаменской церковью и главным собором в свое время образовался небольшой дворик, вернее тупик. Существуют упорные слухи о том, что здесь регулярно расстреливали привозимых откуда-то людей. Окраина Москвы, деревянные домики, глухие монастырские стены. Одна из башен выходит прямо к Москве-реке и заброшенному пруду. По слухам, к этой башне подъезжали по ночам небольшие машины, в которые и грузили трупы. Наверное, скоро закончится в монастыре ремонт, и этот дворик изменит свой внешний вид. Может быть, даже проход в него будет заложен. Но пока еще можно туда войти, постоять среди страшной тишины, на том самом месте, где гибли невинные жертвы террора. Есть много установленных и отмеченных памятниками мест захоронений, а вот место расстрела, куда можно пройти – редкость. Одно из них – «расстрельный дворик» Новоспасского монастыря. В 1930-е годы, когда лагерь уже официально здесь не существовал, в обители открыли детскую колонию (филиал Таганской тюрьмы). После войны здесь то же ведомство использовало помещения под свой архив (НКВД). Потом пришли иные времена, и монастырь отдали мебельной фабрике и реставраторам. Присутствие последних не мешало монастырю медленно, но упорно разрушаться.
Мы начали наше путешествие Преображенским храмом, им и закончим. Ведь главный собор монастыря освящен именно в честь Преображения Господня. В храме находится привезенная с Афона икона Богоматери, возле которой всегда многолюдно. Преображение – наша надежда…