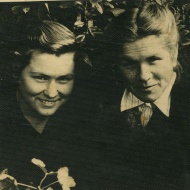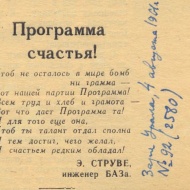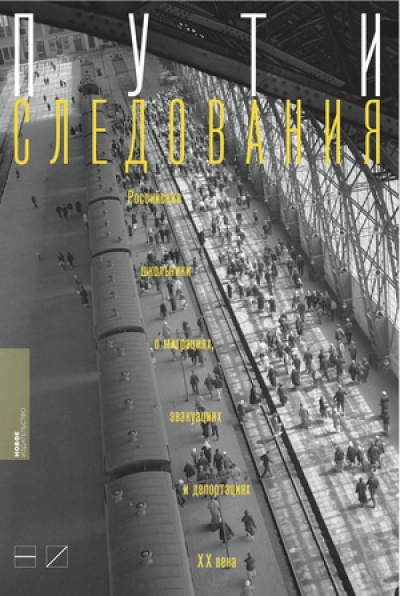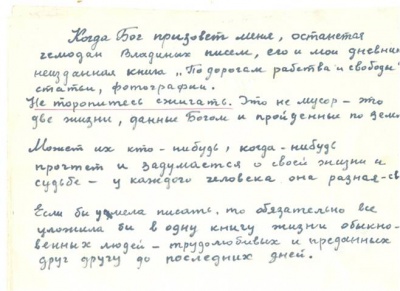«Совсем другой коленкор…»
Из семейного архива
Тамбовская обл., п. Первомайский, школа № 3,
11 класс.
По воспоминаниям бабушки Вари, дяди Володи и мамы, день прорыва блокады был у нас в семье особенный. Когда прадедушка работал, он отмечал его или в последнее, или в предпоследнее воскресенье января. Это был его день, день памяти его друзей и товарищей, погибших, защищая Ленинград. Обычно в этот день он много курил и молчал… Прабабушка Аня топила печку и пекла вкуснейшие пироги с разной начинкой. Про войну почти не говорили. Если кто-то приходил в гости в этот день, то выпивали четвертинку.
|
|
– У нас в семье кто-нибудь воевал? |
Все началось два года назад со школьного сочинения «Великая Отечественная война в воспоминаниях родных и близких». Тогда я училась в 9 классе, и еле-еле хватило у меня сил набрать три листа текста устных воспоминаний прадедушки, родившегося 1 января 1900 года в один день с ХХ веком, с отличием закончившего 4 класса церковно-приходской школы, беспартийного гончара из села Большое Лаврово Тамбовской области, артиллериста Великой Отечественной войны Толпеева Феоктиста Дмитриевича.
Гоняла кассету с записью туда-сюда и почти всё время плакала… В результате получилось что-то большее, чем сочинение.
В этот раз дяде Володе дали отпуск весной, и он прилетел к нам 8 мая. Это брат моей мамы. Бабушка ждёт его, по-моему, каждый день. Они целуются, смеются и достают из карманов заранее приготовленные платочки, чтобы незаметно убрать слезинки.
Разобрав привезённые подарки, ложимся спать.
Утром дядя Володя просыпается раньше всех и в первую очередь будит меня. Он бреется, гладит, по-моему, уже наглаженные брюки, открывает сумку, достаёт белую рубашку и просит меня погладить.
Просыпаются бабушка и мама. Пьём чай с тортом, который тоже прилетел из Красноярска, и все идём на праздник.
К двум часам собираются гости. Бабушка начинает рассказывать про военные годы. Трудно было. Голод. Как выжили, и сами не знают, но прадедушке на фронт об этом никогда не писали. Бабушка Варя молчит – тяжело вспоминать. Но вот дядя Володя включает магнитофон и ставит привезённую кассету. Это реставрированная запись катушечного магнитофона шестидесятых годов. Все слушают.
Запись постоянно прерывается. Прадедушка чуть-чуть отдыхал. С интересом и удивлением сам прослушивал запись, брал микрофон и продолжал…
Я переписываю магнитофонную пленку один к одному. Говорит мой прадедушка за несколько дней до своего последнего часа:
***
«Это я сейчас говорю, а она записывает? Интересно. Какой народ хитрый…
Взяли в армию. Пригнали прямо на станцию Икша. Было у меня с собой 500 рублей денег. А курить нечего, махорка кончилась. 25 рублей в спичечной коробочке табак. Ну, вот куплю, я, например, спичечную коробочку. Закурю, ну и, конечно, товарищи все к ней. У всех губы больные, обожжённые. Цигарка-то уже вся исходит. Она с жаром, а он всё её пихает и пихает, всё обожжёт. Ну, думаю, куплю ещё коробочку и брошу, больше не буду (смеётся). А сам всё покупаю, да покупаю последнюю коробочку. И докурился (смеётся). Осталось денег только полсотни.
И тут погнали нас в Ленинград. По дороге какой-то базарчик. А на нём по 25 руб. осьмушка. Я купил на эти полсотни две осьмушки – и зажил. И тут все ребята накинулись покупать.
А я подумал, что 500 руб. прокурил, молочка не купил ни разу. А молоко было там, можно было купить. Какая штука цигарка…
На станции нас уже ждали.
Некоторые были увезены на Карельский перешеек. Я попал в Ленинград. В первый дивизион, в первую батарею и в первый расчёт 760-го истребительного противотанкового артиллерийского полка. Это потом он стал Кингисеппский, Краснознамённый, ордена Александра Невского. Кингисепп мы взяли. Хотели гвардию дать. А тут приказ, говорили, вышел, что хватит гвардейцев. Чтобы не обидеть, назвали Кингисеппским.
На следующий день выполняю первое задание: знакомлюсь с местностью. Тихо. Но кое-где постреливают. Гляж – везут на тележке что-то. Спрашиваю: «Чевой-то?». «Война», – говорят, – убили»…
Н-да. Вон чем, оказывается, тут занимаются.
Урицкое шоссе, недалеко Шереметьевский парк. Отсюда началась моя защита нашей Родины…
Три дня поучился. А потом командир батареи говорит: «Ну-ка, Толпеев, давай боевое крещение принимать».
Вышли. «Заряжай». Зарядил. «Наводи». Навёл. «Бей». Вдарило!!! Потом целую неделю в ушах гудит и гудит (смеётся). Рот-то зажал. Командир говорит: «Ах, чёрт, я забыл: надо бы сказать, чтобы рот разинул».
Сильно бьёт.
Дивизионные пушки у нас были, стреляли на 13 км. Сильные пушки, 76 мм. Дальнобойные с искрогасителем.
Прослужил неделю. Страшно! Стрельба! А потом привык полегоньку. Выйдешь ночью. Стреляют. Пули летят трассирующие красные, как пчёлы жужжат, их в темноте видно. Ну и чёрт с ними, пусть стреляют.
Глядь – приказ. Завтра в девять часов артподготовку делать. Нам выехать на нейтральную зону приказывают. Штрафников пускать полк.
Выехали мы в семь часов. Ещё тёмно. Поставили орудия. Ударила дальнобойная. Это знак, когда артподготовку делать. И мы начали…Он [немец] в ответ — по нам. Ну и что ж, я же ведь не был на войне, слышал только, как пули трещали. А здесь совсем другой коленкор. Как начали рваться снаряды возле! Нагибаешься, а они бьют то тут, то тут: не успеваешь нагибаться. Старшина был с нами (смеётся). А он бегает с наганом: «Убью, убью, убью. Пристрелю, пристрелю». Не велит нагибаться: «Скорее снаряды давай». Да он и сам растерялся, не знает, что делать. Рядом же с нами стоит, а снаряды-то вот они, рядом падают. Он тоже глядит, что ж, сейчас убьёт. Страх свой так прогонял.
Артподготовку сделали.
Никого у нас не ранило, никого не убило…
Пришла ночь. Командир батареи приказание даёт нашему расчёту съездить трофейную пушку взять. Немец пушку свою бросил. Она, пушка-то, маленькая, плохонькая.
Мы пошли. Идём траншеей. А один придумал оправиться в траншее. Ему говорят: «Нашёл тоже место. Вылез бы, да и оправился». Он вылез и попал на пехотную мину. И ему лапу оторвало по пятку. Он: «Оёй, оёй, оёй, оёй». Как наступишь на неё, так и оторвёт. Она [мина] больше ничего не сделает: они лёгкие. Пяткой наступишь – пятку оторвёт, а лапа будет цела. Отправили его в санбат. Вышли мы из траншеи и в лог спустились. И гляжу я: что же это такое? Дрова что ли сложены, и народ рядом копошится. Говорю: «Глядите, сколько дров навалили в кучи». А мне отвечают: «Какие дрова? Это трофейная команда собирает людей. Видишь, разбирают шинели, брюки, сапоги, а их складывают». «У-у», – говорю. Мне тут уж и страшно показалось. Нашли пушку, возвращаемся. Выходим на мост. Больше нет траншей. А мост весь заминирован. И дорога заминирована. Туда-то мы шли траншеей. А тут приходится по минам идти, пушку везти. А он [немец] рядом, оттуда бьёт. Тут ребята ругаться начали: «Чёрт угоди их, с этой пушкой». И спешить нельзя. Человек впереди идёт, смотрит. На мину попадём, взорвёт всех нас. А они вот, мины-то. И здесь, и здесь, и здесь…Мы совсем замучились. Ну, привезли всё-таки, на мины не попали, миновали. Она и пушка-то – зашвырнуть её. Так, ерунда.
Стою на посту. Постреливают. Где-то невдалеке ухает. И вдруг снаряды рядом стали падать. И всё. Очнулся на земле. Ничего не пойму. Кажется, что рот полон камешков. Выплюнул, а это мои зубы. Ни рукой, ни ногой пошевелить не могу, голова ничего не соображает. Только язык поворачивается и выплёвывает последние остатки зубов. Все кругом бегают, что-то кричат. Погрузили меня на тележку в санбат и сразу в госпиталь в Ленинград.
Дело было так. Рядом разорвался снаряд, и меня засыпало. Выскочили из землянки, кричат: «Батю убило». Комбат за лопатку и приказывает: «Скорее откапывать. Может живой». Откопали. Весь в крови. Из головы и лица осколки снаряда торчат. Комбат к груди: стучит сердце. И, потом мне рассказывали, что он с радости заорал: «Санитаров!», – и заплакал. Всяких командиров повидал на своём веку, а этого никогда не забуду. И было-то ему лет 25. Был строгий, но никого не обижал. И напрасно лишних слов ни молодому, ни пожилому солдату не говорил. Я-то был стариком среди них, 1900 года рождения.
Вернулся из госпиталя на батарею глухой, беззубый и с осколками в голове. Некоторые не вытащили. Так до сих пор в голове и остались. Вот они. В кармане гимнастёрки справка о демобилизации по ранению. Ну, значит, только зашёл в землянку, а тут атака. Все к пушке, я тоже. Снаряды подтаскиваю и боли никакой не чувствую. Наводчика ранило, наводить стал.
После боя командир говорит: «Батя, ну куда ты поедешь? Ладогу бомбят, оставят тебя где-нибудь в Ленинграде санитаром без оружия при госпитале. А тут рядом пушка. Да и наводчик ты у нас самый лучший. Ничего страшного, что не слышишь, слух потом возвратится. Увидишь, что ребята падают, и ты падай. Я им скажу, чтобы тебя дёргали, когда снаряды или бомбы».
Подумал я, подумал, да так и никуда больше не пошёл. А из справки цигарку сделал.
Не расставался я больше с полком. Вместе с ним и дошёл до их изб и бил по нечисти в самой Германии. А когда награждали полк, то казалось, что не на Полковое Знамя, а на мою гимнастёрку прикрепляется ещё одна награда».
***
Слёзы застилали глаза… Сколько бы раз я тогда ни пыталась писать дальше с кассеты, у меня не получалось.
Но бабушка Варя просила иногда включить кассету. И я как-то само собой стала записывать продолжение воспоминаний. К этому времени я уже прочитала «Весёлый солдат» В.П. Астафьева. Хоть и «весёлый солдат», а слёзы тоже местами катятся.
А недавно был фильм про штрафников, и я вспомнила, как помогал им идти в атаку мой прадедушка. И вообще, всё, что пишется и показывается о войне, невольно стала сравнивать с этими воспоминаниями.
В мае этого года была со школьной экскурсией в Санкт-Петербурге. Выйдя из вагона, я поклонилась великому городу, за который была пролита и часть моей будущей крови. Странно: на некоторых улицах мне казалось, что именно по ним везли прадедушку в госпиталь.
Даже просмотрев множество кинофильмов о войне, прочитав рассказы, повести и толстые романы, получив пятёрки по истории, наивно думаешь, что знаешь, что такое война. А вот прадедушка не понимал до тех пор, пока всем организмом не почувствовал, «чем тут занимаются». Хотя бабушка Варя говорит, что он батальные сцены «Войны и мир»
Л.Н. Толстого знал почти наизусть. Прадедушка не воевал в гражданскую, но она ведь тоже прошла по его годам жизни.
Возвратившись из Санкт-Петербурга, включила запись. Рука сама собой потянулась за ручкой, и я стала снова записывать.
«Всё время на передовой. Впереди нас перед ним [немцем] никого не было. Были места, где в одну прорубь с ним за водой ходили.
Коренное место у нас было на Урицком шоссе. Но приказ дают: под Пулковские высоты или ещё куда. Готовим там огневые, делаем артподготовку. Всё закончится, и опять назад, на Урицкое шоссе. А почему? Потому что здесь опасное место, он может на танках прорвать здесь. Как была наша линия, так мы и стояли по ней. А это Урицкое шоссе находится километров пять до Ленинграда. Трудно было.
Бывало куги[1] понажрёмся – тошно. Живот болит. Пальцы в рот, хоть бы сорвало. Никак не рвёт. Никак, зараза. Как будто там прилепится. Ну, думаю, больше не буду. А есть захочешь, опять пойдёшь. Она толстая, хорошая, сладкая. Там болот-то много больших.
Ну а потом появились грибы. Вот там местечко, как раз лесок, и он [немец] за леском. Не велят ходить, а всё равно идём. Наварим грибов, наедимся. А потом пухнуть стали от них. Командир ругается, котелки опрокидывает. Но, что поделаешь, есть-то хочется.
Разведка уходила через нас. Возвращалась к утру, иногда и позже. Как-то проговорились они, что километра два в сторону от нас лошадь убитая лежит. Дождались ночи и поползли. Эти два километра показались двадцатью. То что постреливает, так это ерунда, а он [немец] ещё ракетницами освещает. Затихнем и молимся. С нами лейтенант увязался. Хороший парень. Всё не велел глотать. Мы как добрались, так сразу в рот. А он всё нас уговаривал: «Жуйте всю дорогу, но не глотайте». Вперёд первым шёл, а назад еле полз. Офицеры ели то же, что и мы в то время. И если что-то им перепадало, делились с расчётом. Встретил нас командир и всё отобрал. Только маленький кусочек дал сварить. Боялся, что с голодухи наши животы не выдержат. Только один бульон первый день все и ели…
Это было что-то несусветное, не приведи Господь. И танки на нас, и самолёты на бреющем с пулемётами и бомбами. От танков спасение – наши пушки. А от самолётов… (Смеётся). Расчёт слюнявил бумажку из кисета и затыкал уши. Я на что уж глухой и то cлышал. А тоже, расслюнявишь бумажку – и в ухо, вроде как вату по-нынешнему, когда болит.
Прорыв блокады. Это большой праздник для всех, кто прошёл через Ленинград. Медаль «За оборону Ленинграда» – эта награда дороже других, даже высших по статусу, потому что в ней собралось самое тяжёлое для меня время войны. От взрыва снаряда был похоронен заживо, хотя и был без сознания. И опосля легко не было. Но там было изнурительнее, чем в самом тяжёлом бою. (Долго молчит).
Хотелось после войны в Ленинград съездить. Раньше боялся, что сердце не выдержит. А теперь точно не выдержит. Может, когда-нибудь окажетесь там. Поклонитесь от меня».
***
По воспоминаниям бабушки Вари, дяди Володи и мамы, день прорыва блокады был особенный. Когда прадедушка работал, он отмечал его или в последнее, или в предпоследнее воскресенье января. Это был его день, день памяти его друзей и товарищей, погибших, защищая Ленинград. Обычно в этот день он много курил и молчал… Прабабушка Аня топила печку и пекла вкуснейшие пироги с разной начинкой. Про войну почти не говорили.
Если кто-то приходил в гости в этот день, то выпивали четвертинку. Говорят, что он вообще практически не выпивал. Лишь иногда мужики гончарной мастерской, собравшись в шалмане для решения какого-нибудь вопроса, употребляли по полстакана. Мне пояснили, что шалман – это вроде нашего кафе при сельском магазине. По праздникам на кулачках за своё село в двадцатые годы ХХ столетия прадедушка стоял первым в ряду. Но по другим поводам никогда не дрался.
«Прорвав блокаду, мы рванули лихо. Уже 1 февраля взяли Кингисепп. Говорили, что в честь этого даже был салют в Москве.
Это уже после блокады. Восточная Пруссия. Он [немец] шёл на нас, как будто не понимал, что мы его стираем в порошок. У них, наверное, тоже были «штрафники». В этом бою нас никого не убило. Ранило всех, но легко. А рядом не только расчётов, но и пушек не осталось. Мне комком земли так вот сюда угодило, что если бы были зубы, то опять бы их выбило, а если бы слышал, то опять оглох бы. Упал, а падать нельзя: бить надо. Вскочил, за пушку держусь и команд не слышу: снаряд зашёл – бью, снаряд зашёл – бью.
Вечером младший лейтенант, молоденький, после училища, говорит: «Батя, с тебя полкисета, тебя представляют к Герою». За что же такая напасть-то? Я бегом к комбату. У нас поверье такое было: если Героя получишь – то всё… Комбат собрал всех и говорит: «За боем наблюдали. Передали, чтобы на батю готовил документы, а он говорит, что не заслужил. Ну, кого?» А в расчёте никто Героя получать не хочет… (И смеётся, и вроде плачет что ли).
Ты пойми, что на войне воюют каждый день, но не каждый день стреляют, а тем более из пушек. Один болтун рассказывал прошлый раз по телевизору, что они били его днём и ночью. Что? Не спали и не ели? Или, как на заводе сейчас, в три смены где-то воевали?
Хороший был у нас товарищ, погиб в бою за неделю до этого боя. Мы все и уговорили, что ему Героя надо дать. Мы-то, даст Бог, ещё к семьям вернёмся, а его семье всё какая-никакая, а помощь. Воевали мы все одинаково, у пушки за спину друг друга не спрячешься, да и мыслей таких, можешь мне поверить, ни у кого не было. И на его месте в том бою мог оказаться любой из нас.
Что говоришь? Бой был тяжёлым? Как тебе разъяснить-то…Вот дождик никогда не бывает сухим, он всегда мокрый. Так и бой. Он всегда тяжёлый для солдата».
Отказаться от Героя, когда каждый хотел «хоть бы «За отвагу»!!! Надо быть на их месте, чтобы понять это. А сравнение боя с дождём? И это всё говорит обыкновенный гончар из обыкновенной российской деревни.
«Нашу батарею один раз чуть целиком в плен не взяли. Темь был – хоть глаз коли. Он [немец] немножко ошибся: осветил раньше, чем надо было. И постовой заметил какое-то движение впереди. Тревога. Командир орёт: «Осколочными». А ничего не видно. Он опять осветил. И увидели мы его совсем близко: из кустарничков выскакивают. Тут уж и приказывать не надо было. Всем стало всё ясно. Били без останову. Рядом разведчики оказались. Здорово нам помогли. Но до утра глаз никто не сомкнул. А утром штабники прибыли выяснять, в чём дело; вроде как незапланированная трата снарядов произошла.
Погибнуть можно было не только в бою. Вот, к примеру, случай. Он [немец] ведь что умудрялся? В колею поглубже заложит мину. Сапёр пройдёт – чисто вроде. И машина пройдёт несколько раз, и танк прокатится. А дождь начнётся, машина буксует, колея глубже становится. Буксанул несколько раз – и до мины добрался.
Случай был. Тащим пушку. А дороги развезло. Из всех сил упираемся. Я стоял в тяжёлом месте. Один подходит: «Становись, батя, вот сюда, а я на твое место встану». У нас никто никому никогда не сказал: «Эх, ты, слабосильный». Просто подходили и помогали. Я также минут пятнадцать назад заменил на этом месте товарища. Только двинулись, как рва-а-нёт! Как раз там, где он встал. Попадали. Всем ничего, а ему ногу оторвало повыше колена. Она внутрь ударила. Если бы наружу – убило бы его. Да и нам бы досталось. Суетимся вокруг него, а он: «Да вы не расстраивайтесь. Домой вот теперь поеду. Женюсь». Он всё переживал, что дожил до 25 лет – и холостой. Что с войны его никто кроме матери не ждёт. А ему уж очень хотелось, чтобы жена его ждала.
В одном немецком городишке мы стояли неделю. Небольшой, вроде как наш Мичуринск. Обедаю, значит, однажды у фонтанчика. Фонтан-то, конечно, без воды.
Гляжу – кто-то на меня смотрит. Поднял голову: метрах в восьми стоят мальчик лет 8 и девочка годиков 5. Мальчик всё головку наклоняет. И догадался я, что это он так слюну глотает, есть хочет. Вспомнились свои ребятишки, и комок к горлу – ложка в рот не лезет. Машу рукой и показываю ложкой на котелок – мол, иди, поешь. Он девочке что-то сказал и направился ко мне. Мальчик не просто шёл, он подкрадывался. Видела, наверное, как кошка за птичкой охотится. Вот и он также. Одежонка старенькая, уже маловата, но опрятненькая.
Подаю ему ложку, а он на хлеб смотрит. Даю хлеб, а он слюну проглотил и за пазуху его. Потом как сжатая пружина расправилась: схватил котелок с ложкой и бежать. Я кричу: «Цурюк, цурюк. Нихт, нихт». Он бежит, не останавливается. Пришлось подниматься. А он поставил аккуратно котелок на дорогу – и к девочке: отдал ей хлеб и на меня смотрит. Понравилось мне, что он так сделал, что хлеб-то ей отдал. Засмеялся я и говорю: «Гут, гут. Молодец. Ком, ком, иди сюда», – и котелок протягиваю. Наверное, от моего смеха и парнишка заулыбался и сперва потихоньку, а потом быстрее уже обычной походкой направился ко мне. Даю котелок – не берёт, на девочку смотрит, слюну глотает. Потом взял ложку, старается со дна покруче зацепить, и потихоньку стал её прикладывать ко рту. Котелок у меня на коленях. После первой ложки он опять со дна загрёб, но есть не стал, а аккуратно, подставив под неё ладошку второй руки, направился к девочке. Смотреть на это было невыносимо. Девочка несколько раз прикладывалась к ложке, как к большому черпаку. Он ей в это время что-то говорил, поглядывая и показывая на меня. Отдав ложку мальчику, девочка заулыбалась и пошла ко мне. Но тут у неё выпал хлеб. Она нагнулась за ним, но мальчик оказался проворнее и опять засунул его себе за пазуху.
Девочка села рядом со мной. И стали они есть по очереди: она ложку съест – передаёт ему, он ложку съест – передаёт ей. Расчёт собрался. Вторую ложку кто-то подал. Подтрунивают надо мной: «Ну и батя! Уже детьми обзавёлся». А сами смотреть не могут на это, отворачиваются и цигарки скручивают. Уж больно за душу берёт. А кашу они есть не стали, выложили в фуражку мальчику. «Мути, Мути», – и заторопившись, ушли».
Воспоминания дедушки о встрече с детьми выливают из меня ручьи слёз.
«Мальчика звали Ганс, девочку Эльза. Мы их по-своему перекрестили: мальчика Гришей, а девочку Лизой. Каждый день стали они к нам бегать. Подкармливали мы их и домой давали.
К колонке за водой очереди были. Население местное. Гриша расталкивал очередь (смеётся). Ловко это у него получалось, что-то говорил на своём, очередь расступалась, и мы набирали воду. А Лиза всегда на плечах у кого-нибудь из нашего расчёта была. Мы потом многих ребятишек подкармливали и всех по-своему крестили. (Задумался). Запамятовал, может, это были Фридрих-Федя и Лётта-Люда. Подзабыл… (Немного молчит). Кажись, всё-таки Гриша с Лизой.
За день до приказа пришли они с матерью. У нас один немного переводил. И мы поняли, что отец у них воевал во Франции, был у англичан в плену. С опаской она смотрела на нас. Только когда стала уходить, заулыбалась. А потом вдруг заплакала и стала кланяться: плакала и кланялась, плакала и кланялась. Отдали ей, что у кого было: сахар, сухари. (Закашлялся, молчит).
Ну и тут приказ: двигаться дальше. Гриша и Лиза провожали нас до столбика окончания города. И долго стояли и махали нам такими желанными детскими ручонками. А я, глядя на них, вспоминал своих Варю, Сашу и Витюшку. Вдруг Гриша снял рубашку и замахал ей, и подумалось мне, что второй раз меня дети на войну провожают».
«Второй раз меня дети на войну провожают», – так говорит о немецких детях русский гончар, ставший артиллеристом.
Я начинаю понимать слова нашей соседки бабушки Любы о прадедушке Феоктисте: «Если бы он что-нибудь закончил, он был бы большим человеком».
«Зубы-то, эти присоски, я уже после войны в Мичуринске вставил. Офицеры наши старались для меня, да и врачи тоже, но ничего не получалось. Первый раз мне начали их делать в Восточной Пруссии. Почистили рот: это, по-врачебному, остатки корней от зубов повырывали. Сказали, что теперь через две недели, чтоб пришёл. А какой там через две недели, когда наутро артподготовка и вперёд.
Потом в нескольких местечках успевал только глину во рту подержать, чтобы форму сделать. В одном городишке даже примерил один раз. Красивые такие зубы были. Сказали завтра придти, а завтра опять вперёд.
Последний раз делали, когда война уже закончилась. Ну, думаю, теперь-то успею. И опять не успел. Зачитали приказ о возвращении домой. Побежал, хоть недоделанные взять, а мастерская по зубам закрыта (смеётся). Так беззубый и пришёл домой. (Смеётся.)»
Рассказывал прадедушка всё это дяде Володе в сентябре 1969 года. Иногда подходили бабушка Варя и прабабушка Аня. На этой стороне кассета заканчивается.
Кстати, узнала сейчас, что когда прадедушка ушёл на войну, бабушка Варя, оказывается, стала работать в мастерской гончаром (когда началась война, ей было 15 лет).
[1] Куга – болотное растение (см. В.И.Даля)
Тамбовская обл., п. Первомайский, школа № 3,
11 класс.