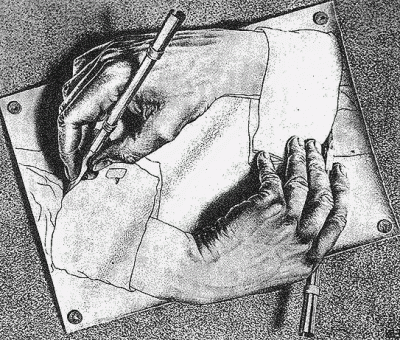Другая «Память»
— Как вы себе представляете в 70-е годы иерархию советской исторической науки? Вписывается ли туда журнал «Память» и те люди, что его делали?
— Главной функцией советской историографии была идеология — формирование «правильного» образа истории, который позволял конструировать идентичность обычного советского человека. Именно поэтому государство платило за это какие-то деньги, содержало институты, журналы и так далее.
Соответственно, если мы говорим о иерархии, она у нас получается как будто бы двойной: официальной и по гамбургскому счету. Официальная была напрямую связана с той самой «внешней» главной функцией. И в этом случае понятно, что главной в иерархии являлась история КПСС. Это был предмет, преподававшийся абсолютно во всех высших учебных заведениях. Да и школьная история была примерно такой же. Я помню, что когда сказал родителям дома, что хочу стать историком — они мне сказали «Кошмар! Зачем тебе это? Там учебники меняются в зависимости от очередного съезда партии». И, в общем, в 50-60-е годы так и было. Я тогда уперся сказал: «Нет, бывает настоящая история». А сейчас думаю, что родители тогда были скорее правы.
Ступенью ниже после истории КПСС шла отечественная история. Предмет, читавшийся в школе в качестве основного. Учебник Рыбакова и следующие за ним школьные учебники, фактически, были главными текстами формирующими образ прошлого у «нормального советского человека» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Работавшие с прошлым институции тоже опирались на историческую науку и тот образ прошлого, который она формировала. Краеведческие музеи, мемориалы, прочие коммеморативные практики — все питались за счет этого. Бесконечные юбилеи, доклады к юбилеям — все в том же духе.
Дальше в этой иерархии шла история зарубежных стран. Причем, понятно — чем древнее, дальше от нас по времени, тем менее актуально и, следовательно, ниже в официальной иерархии.
Я часто задумывался, зачем вообще в Советском Союзе была нужна, например, медиевистика? И с точки зрения логики этой «официальной» структуры, единственный удовлетворительный ответ, который у меня есть — «просто затем, чтоб была». Советский марксизм в своем позднем варианте — тотальная философия, претендующая на выведение универсальных законов, объясняющих все. В том числе и историю. И в ней не должно быть лакун. Соответственно, медиевистика должна была показать, что и на материале средневековой истории эти универсальные законы тоже работают. Причем взаимодействие здесь было диалектическое: медиевисты должны были «брать» из идеологии определенные постулаты, которые должны были использовать в качестве теоретического основания своих конкретно-исторических работ, и «возвращать», как бы подтверждающие правоту этих постулатов концептуальные построения. Дескать, да, все верно.
А кроме того, Советский Союз унаследовал от Российской империи претензии на статус «великой историографической державы» (этот термин Павла Юрьевича Уварова мне очень нравится) и советские историки, овладевшие «единственным подлинно научным методом», должны были его упрочить.
С другой стороны, вопреки всему этому, была иерархия неофициальная. В ней как раз одно из важнейших мест занимала история средних веков. Во многом по причине своей политической неактуальности — она могла заниматься наукой, которая была не очень важна для большой идеологии, большого образа истории. «Как строились отношения франков и галло-римлян?», — что бы ты ни сказал по этому поводу — ничего особо не поменяется, в силу политической неангажированности этого вопроса. Кроме того, для историков-медиевистов были большие требования на входе в профессию: нужно было знать древние языки, как минимум латынь. И современные языки тоже — большинство нормальных работ по теме написаны по-английски, французски и немецки. Отсюда — быть медиевистом сложно и медиевистов немного.
При этом, отчасти благодаря этому медиевистика стала своеобразным «полигоном» по обкатке новых идей (тут я следую за Гуревичем и Уваровым). Почему? Потому что средние века — посередине. Политическая актуальность в советском варианте не давит, не мешает заниматься «нормальной наукой», а письменных источников немало с одной стороны, больше чем для древнего мира, а с другой стороны — их количество не превышает критическую массу, как в новое время. Это прекрасно видно и на западе — пример «Школы Анналов» хоть и чересчур растиражирован, от этого не становится менее показательным. И Блок, и Февр, и Бродель стали классиками, чьи работы вошли в круг чтения не только медиевистов.
Были еще, конечно, археология и этнография. О них подробно говорить не буду — отмечу только, что и там, с особенной экспедиционной культурой, развивался своеобразный эскапизм. Кроме того, против засилья идеологии в какой-то степени помогало и то, что та же археология — не вполне историческая наука во многих отношениях, там много практических и естественно-научных вещей.
Возвращаясь к верхушке нашей официальной иерархии — а что было хорошего в изучении истории советского общества? Идеологии там было очень много, и с точки зрения значимого для большинства советских историков (и не-историков) «классического» идеала науки то, что происходило там, не шло ни в какое сравнение ни с медиевистикой ни, например, с востоковедением. Но что-то интересное было и там. Советскому режиму ведь нужна была от историков не просто агитка, а «научное обоснование».
Чтобы наука оставалась наукой, она все-таки должна быть окружена набором специальных профессиональных знаний и учебных курсов, которые эти знания формируют. И в советских вузах, которые готовили историков, читали, например, вспомогательные исторические дисциплины. Именно наличие этих навыков отличает профессионального историка от не-историка.
— А насколько эта методологическая подготовка вообще помогала написать что-то стоящее? Или, как, например, пишет Копосов — выкини из этой методологии весь внешний марксизм — все равно в результате вместо исследования соберешь тот же самый автомат Калашникова?
— Я говорил в данном случае именно о методике, то что связано с содержанием таких специальных курсов как палеография, сфарагистика, дипломатика, источниковедение. Идеология большого влияния на них не оказывает, а для проведения «качественного» исследования, они оказываются необходимыми. И с другой стороны, именно они делают это исследование «научным».
— Понятно, что Средними веками без этого заниматься невозможно. А XX-м веком?
— Здесь тоже были свои специфические методики исследования, дававшие, если пытаться оценивать «объективно» достижения советской историографии советского периода, свои результаты. На мой взгляд, в изучении истории XX-го были интересны, например, две вещи.
Во-первых, введение в научный оборот новых источников. Из тех же провинциальных архивов, где находилось немало и интересного, и уникального. Вместе с тем, конечно, идеологии там тоже было полно — нужно было искать жемчуг в навозной куче. И всё же искать было можно, и историки этим занимались. Достаточно много источников было ведено ими в научный оборот. Вводилось выборочно, в результате жесткой в том числе и идеологической селекции, с лакунами, порой, криво и косо, но вводилось. А, во-вторых, использование компьютеров (тогда еще ЭВМ) при обработке массовых исторических источников. То, что шло в МГУ от Ковальченко и его школы. От подобных процессов, протекавших в западной науке, всё это, конечно, отставало, однако на местном уровне было вполне достойно. А для того, чтобы заниматься всем этим, необходимо было знание специальных методик научного исследования.
Хуже было то, что (возвращаясь непосредственно к уровню методологии) все это базировалось на основании специфического советского «режима научности», который в свою очередь являлся результатом причудливой «заморозки» образа науки XIX-го века с его гносеологией и онтологией. Я даже не говорю в данном случае об идеологической ангажированности и пресловутом принципе партийности. Нет, это представления об объективности познания, наличии универсальных закономерностей, тотально определяющих исторический процесс, понимание истории как имеющего свою строгую логику процесса прогрессивного изменения общества во времени, субъектом которого оказываются над-индивидуальные общности — государства, классы и т.д. То есть ситуация, при которой отдельный человек — это социальный атом и его судьба, чувства, любовь, страдания, переживая не играют никакой роли для истории. Задающей антигуманистический режим историзма, со всеми вытекающими последствиями. Такими как принципиальная невозможность моральных суждений. Они, конечно, были в работах советских историков, но как бы ненароком, впроброс. А официально главным критерием оценки в рамках этого режима историчности была прогрессивность. Это то, о чем писал Коржавин в стихотворении об Иване Калите:
Был ты видом — довольно противен.
Сердцем — подл…
Но — не в этом суть:
Исторически прогрессивен
Оказался твой жизненный путь.
Более того — привыкшая к марксизму, наша профессиональная историческая наука и в 90-е годы, и потом пыталась подставить на его место какую-нибудь тотальную, все объясняющую гносеологию. «Закономерности» и так далее. Быстро перепробовали Тойнби, Гумилева, ещё кого-то. «Советский режим» существования историографии оказался в высокой степени очень инерционным. Кажется, многие профессиональные историки у нас до сих пор ищут философию, заточенную под классический режим взаимодействия с историографией.
Впрочем, справедливости ради следует отметить, что это категорическое суждение в первую очередь имеет отношение к «чистым» историкам. Несколько иначе обстояло дело, например, у историков философии или историков литературы, которые проходили «по другому разряду». Здесь, конечно, как везде, тоже были свои махровые питекантропы и прочие чудаки, но было и другое.
Например, та же самая московско-тартусская семиотическая школа. И в этом отношении для меня в понимании «режима научности» в историческом сборнике «Память» ключевой является фраза, которую Арсений Борисович Рогинский сказал в интервью польскому журналу «Карта», примерно так: «Лотман нас научил ходить в архивы, а то, что он делал потом — (те работы которые принесли ему мировую известность — семиотика, теория культуры) — это мне уже менее интересно». То есть для него (я, впрочем, немного утрирую) Лотман важен в первую очередь как наставник, обучивший классическим позитивистским навыкам работы. А собственно «лотмановское», очень важную и специфическую вещь — семиотику как проблемное поле, особый язык семиотики, её систему координат, культуру как семиотическую систему — он не принимает.
Семиотика между тем предполагает несколько иной режим методологии и стоящей за ней онтологии. В частности, работы такого типа как правило начинаются с того, что исследователь сам конструирует не очень понятный, но все-таки свой собственный объект исследования. И уже затем начинает обращаться к источникам, в том числе и известным ранее, с принципиально новыми вопросами. В классическом исследовании в духе XIX-го века такая позиция не то что «не предполагается» — она просто недостаточно отрефлексирована.
— Для создателей «Памяти», как мне кажется, принципиально важны две вещи: с одной стороны, традиция русской литературы, внимание к маленькому человеку. Оно, к слову, очень хорошо соотносится с тем самым «безмолвствующим большинством» и «великим немым», которому как раз пытались дать слово в это время западные историки. И, с другой стороны, для этого круга людей, конечно, важен активизм, независимое свободное высказывание и действие.
— Да, пожалуй. Наверное можно о говорить в данном случае о некой интенции, идущей от пресловутого гуманизма классической русской литературы. Получается, что она тоже вступала в противоречие с советским образом истории. В своем интервью для нашей книги Даниэль говорит, что им важно было уйти от свойственного официальной советской историографии монологизма.
«Маленький человек» — это именно человек, а не социальный атом. Нужно уметь показать его многогранность, сложность. Борьбу внутри него разных свойств и идентичностей. И с этим, безусловно, связано первое принципиальное новаторство «Памяти» по отношении к советской официальной исторической науки, точнее официально доминирующих в ней тенденций. Новаторство тематическое и методологическое. Второе новаторство — это, конечно, источники. Они были новыми и неожиданными — ничего такого и в таком виде нельзя было в то время опубликовать в каком-нибудь журнале «Вопросы истории». Воспоминания, например, узников ГУЛага.
И здесь мы подходим к соотнесению проекта «Памяти» с кратко охарактеризованными выше иерархиями советской историографии, официальной и неофициальной. Получается, что и ту, и другую «Память» попыталась перевернуть, сделать более нормальной. Сделать так, что изучение важных и актуальных (с точки зрения общественной и даже политической значимости) проблем в первую очередь истории своей родной страны, изучение отечественной истории ХХ века, стало научным. Или по крайне мере избавилось от деформирующего давления идеологии. Как изучение средних веков.
И все равно при этом меня не оставляет ощущение, что для авторов «Памяти» был очевиден момент «прозрачности» истории: «История, в общем, понимаема. Нужно просто качественно собрать все источники, отказаться от заданной идеологической схемы, подгоняющей факты под систему». И тогда удастся реконструировать «как оно было на самом деле». Другими словами, «Память» пытается перевернуть, сделав нормальной иерархию исторической науки, отказывается от монологизма и детерминизма советского образа истории, стремясь показать (это принципиально важный для них тезис), «что все было гораздо сложнее», открывает во многом благодаря этому, принципиально новые теме, сюжеты и проблемные поля, но на уровне гносеологии и онтологии все равно остается в «классическом режиме», совпадая в этом с советской историографией. Только при этом конечным критерием достоверности оказывался нерефлексируемый «нормальный человеческий опыт».
— А, может, это вообще не вполне история как наука, а просто память? Сборник «Память»? Качественная публикация источников с комментарием и минимум историософии и рефлексии?
— Отчасти да. Хорошо, пусть это и память. И даже не столько память, сколько то, что Фуко называл «контрпамятью». «Память» в значительной степени вырастает из тех нарративовв о прошлом, существовавших в интимном, семейном пространстве многих советских людей или текстов, имевших хождение в диссидентских или около диссидентских кругах, которые никак не укладывались в официальный советский образ прошлого. Авторы «Памяти» сознательно и целенаправленно публиковали такого рода тексты, репрезентируя «контрпамять».
Но, при этом «Память» — это же не только публикация источников разного рода. Там есть и исследовательские статьи, и рецензии, и комментарии к публикациям. Их по объему не так много, меньше, чем источников, но они есть.
Во-вторых, и это отличало от других неподцензурных изданий, работающих с прошлым (публицистических или художественных), — это же, так сказать, демонстративно академический комментарий. Да и вообще, публикация источника — это результат серьезной научной академической работы. И в программном введении к первому выпуску «Памяти» говорилось, правда, с оговорками, о научном академическом хаарктере издания. Так что это не просто комемориальная репрезентация, но и не просто традиционный академизм.
Чем вообще хорош научный классический академизм? Он содержит в себе в имплицитном виде иллюзию познаваемости мира. В результате приложения порой невероятно больших усилий ты в итоге получишь знание, которое будет не просто плодом твоего воображения или фантазии. Действительное знание о прошлом. Объективное, верифицируемое. Главное слово здесь как раз «верифицируемое». Он пусть и непросто, но удовлетворяет «тоску по подлинной реальности». «Люди, правда, страдали в тюрьмах. Люди страдали в ГУЛАГе. Это не мои фантазии. Об этом я знаю, и я об этом расскажу.» Отсюда появляется устойчивость, комфорт для исследователя. Ощущение того, что ты не напрасно приложил усилия …
И на фоне этого классического академического режима работы с прошлым всевозможные «современные» нарочито проблематизирующие и теоретически оснащенные исследования, та же лотмановская семиотика может показаться вещью путаной, сложной. С каким-то своим птичьим языком, не очень понятными авторитетами. Своими методиками исследований. Своеобразной игрой в бисер. Вполне можно предположить, что ученику Лотмана Арсению Борисовичу Рогинскому это могло быть неблизко.
— Да, понятно, что они не хотели сидеть в воображаемом замке из слоновой кости и выпускать какие-нибудь методологические сборники.
— Именно. Они, может быть по разным причинам, хотели именно «настоящего исторического исследования» в классическом режиме.