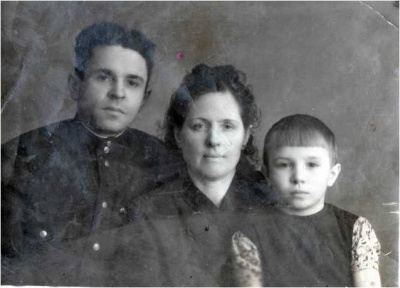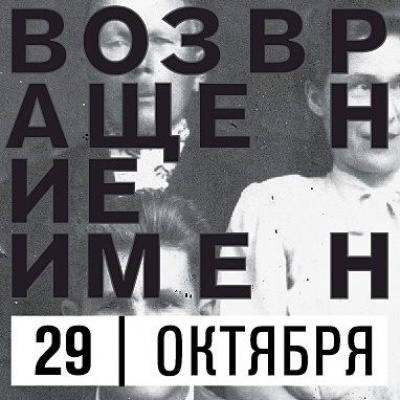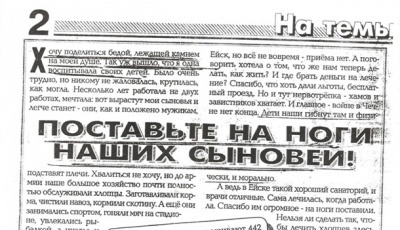1930-50-е годы. Эрос на государственной службе
В 30-е годы государство (комсомол) уже активно борется с «половой распущенностью» в среде рабочих – в основном жесткими, директивными методами, мало способствующими повышению бытовой культуры населения:
«Бесцеремонное вмешательство в личную жизнь людей в 30-е гг. стало обычным явлением, ханжеское морализирование — непременным атрибутом молодого советского человека — активиста и передовика. Партийные, профсоюзные и комсомольские организации повсеместно вторгались в личные отношения людей. На собраниях считалось в порядке вещей во всеуслышание обсуждать вопросы интимной жизни членов коллектива». (Н.Б. Лебина).
Установка на игнорирование частного в пользу общественного приводит к смешению «языка любви» и идеологии. К. Богданов в статье «Любить по-советски: figurae sententiarum» пишет:
«Тематизация любви в советской литературе сталинской эпохи – это уникальное соотнесение собственно индивидуального и социального. Само употребление слов «любовь», «любимый», «любимая» в частотном отношении однозначно указывает на приоритет социального над личным: это любимая Родина, любимый Ленин, любимый Сталин, любимая Москва, любимый город, любимый завод, любимый колхоз и т.д.» В качестве примеров того, как интимное встраивается в социальное, К. Богданов приводит ряд самых популярных песен 30-х годов: Как невесту, Родину мы любим/ Бережем как ласковую мать(«Песня о Родине»)… (СССР: Территория любви, С. 30)
В соцреалистической литературе социальное (долг) всегда одерживает победу над частным (любовью). Американский славист Катарина Кларк в известном исследовании «Советский роман: история как ритуал» описывает три типичных варианта любовного сюжета в соцреалистическом романе (похожие варианты можно обнаружить и в кино):
- герой не знает любви, т.к. отдает всего себя служению социалистической Родине,
- герой влюбляется и под руководством подруги обретает политическую сознательность,
 герой должен пройти через «испытание»: преодолеть любовь к «неправильной» любимой (безыдейной мещанке, представительнице нерабочего класса и т.д.). В третий вариант попадает также возможная в произведениях второй половины 30-х годов ситуация, когда жена или муж оказываются врагами народа. Тогда положительный герой должен не только преодолеть любовь к близкому, но обязательно сдать его НКВД – как, например, делает это героиня фильма И. Пырьева «Партийный билет» (1936).
герой должен пройти через «испытание»: преодолеть любовь к «неправильной» любимой (безыдейной мещанке, представительнице нерабочего класса и т.д.). В третий вариант попадает также возможная в произведениях второй половины 30-х годов ситуация, когда жена или муж оказываются врагами народа. Тогда положительный герой должен не только преодолеть любовь к близкому, но обязательно сдать его НКВД – как, например, делает это героиня фильма И. Пырьева «Партийный билет» (1936).
Исследователи пишут о том, что в искусстве 30-х годов – особенно в живописи и кинематографе – образы влюбленных лишаются сексуальности, а их поведение становится «детским». Любовные отношения героев развиваются при активном вмешательстве колхозного или рабочего коллектива, с обязательным участием авторитетного посредника: члена партии или руководителя. Почти никогда этим авторитетом-благословителем не является близкий родственник, отец или мать: согласно официальной картине мира все советские граждане были детьми партии и «отца народов» Сталина. Так, в фильме М. Чиаурели «Падение Берлина» любовный союз рабочего и учительницы благословляет сам Сталин – причем местом действия этой фантасмагорической сцены оказывается Потсдам…
Как отмечает Т. Дашкова, в фильмах сталинского периода прямой показ любовных эмоций и сексуальности – явление редкое. В основном кинематограф использует различные «фигуры замещения»:
«эмоциональную музыку (и) долгие хождения вдвоем» (финал «Светлого пути», прогулка в «Весне»), песню вместо словесного объяснения в любви («Веселые ребята», «Цирк», …«Свадьба с приданым», «Испытание верности» и др.), показ природы для обозначения эротического переживания (лесосплав в «Трех товарищах», разламывающийся лед, волны, порывы ветра, ливень в «Сказании о земле Сибирской» и «Испытании верности»). Более редким, и потому интересным, вариантов является перекодировка трудового порыва в эротический (классический пример – вдохновенная ритмизированная работа на 150 станках в «Светлом пути»)…» (Т. Дашкова, «Границы приватного в советских кинофильмах до и после 1956 года»/ СССР: Территория любви, С. 152)
Следуя официальному советскому пуританству 30-х годов, все любовные отношения на экране должны были приводить к свадьбе (или хотя бы на нее намекать).
«Идеи социалистического аскетизма в 30-е гг. стали чуть ли не нормой жизни. Проблемы половой любви не дискутировались теперь свободно на страницах молодежных журналов… Внешне изменился даже стиль поведения молодежи. Побывавший в 1937 г. в Ленинграде знаменитый французский писатель Андре Жид с удивлением писал о выражении серьезного достоинства на лицах молодых людей без всякого намека на пошлость, вольную шутку, игривость и тем более флирт.
Политическую систему устраивала деэротизация советского общества… Подавление же естественных человеческих чувств пролетарской идеологией порождало фанатизм революционного характера, нашедший, в частности, выражение в безоговорочной преданности лидеру, в обожествлении личности Сталина». (Н.Б. Лебина)
Идеологически благонадежные влюбленные существовали на советском экране до середины 50-х годов. Сразу после смерти Сталина ситуация стала меняться: вместе с «оттепелью» пришло время новых героев и новых любовных сюжетов.
Фильмы:
- Крестьяне (реж. Ф. Эрмлер, 1934)
- Простой случай (реж. Вс. Пудовкин, 1930)
- Колыбельная (реж. Дз. Вертов, 1938 )
- Случайная встреча (И. Савченко, 1936)
- Цирк (реж. Г. Александров, 1936),
- Светлый путь (реж. Г. Александров, 1940)
- Партийный билет (реж. И . Пырьев, 1936),
- Богатая невеста (реж. И . Пырьев, 1937),
- Трактористы (реж. И . Пырьев, 1939),
- Свинарка и пастух (реж. И . Пырьев, 1941)
Ольга Романова