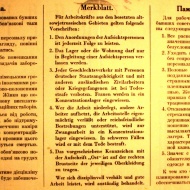«Я не смею говорить…»
научный руководитель Б. Р. Колегов
Памяти солдат Великой Отечественной,
для кого фраза Сталина «У нас нет пленных —
у нас есть только предатели» оказалась роковой.
Я не ставила никакой цели, готовя эту работу. Цель, как и сама работа, возникла случайно. Умер мой дедушка Александр Александрович Калимов. Судьба всю жизнь испытывала его на прочность. Но он не поддавался ей, работал. Стал не последним человеком в городе и республике.
Родился мой дедушка в селе Тыдор Усть-Вымского района в 1920 году. В семье он был тринадцатым ребенком. Его жизнь представлялась мне до обыденности простой. Обычный сельский паренек 30-х годов: учеба, работа, служба в армии, во время войны — участие в боях, после войны — работа, пенсия и смерть. Дедушкин архив был случайно обнаружен моими родителями уже после его смерти и перевезен к нам. Среди бумаг деда папа нашел коробку из-под конфет. Он открыл ее и в свертке, в старой шали обнаружил рукописные воспоминания дедушки, датированные 1946 годом. Они рассказывали о тех событиях, которые дедушке пришлось пережить с 1941-го по 1945 год. Рукопись представляет собой самодельно сшитую книгу-альбом большого формата в 90 рукописных листов. Она обшита беленым холстом с чернильной надписью на форзаце «А. Калимов».
Я долго колебалась, участвовать или не участвовать в конкурсе. Колебалась до тех пор, пока не решилась прочитать воспоминания дедушки. Прочитав их, я поняла, что дед свои записки посвятил нашему поколению и поэтому я просто обязана участвовать в конкурсе. Читая дневник моего дедушки, я проследила его путь.
Лето 1941 года
Дедушка попал на службу в Красную Армию в 1939 году в пограничные войска НКВД, которые были расположены на территории Эстонии. До 1940 года он охранял «временные приграничные рубежи с соседними государствами». После «вхождения» Эстонии в СССР он начал охранять границу СССР.
Именно здесь 22 июня 1941 года на 21-м году жизни младшего сержанта пограничных войск НКВД Александра Калимова застала Великая Отечественная война. Все идеи-лозунги, на которых он был воспитан («Война малой кровью», «Война на чужой территории», «Все советские люди как один встанут на защиту своего отечества»), были опровергнуты в первые же дни войны.
Уже тогда дедушка понял ошибочность этих лозунгов.
«Абсолютное большинство эстонцев стало на защиту своей Родины на стороне немецких оккупантов».
Эстонцы стали уходить в леса и формировать там отряды местного национального ополчения.
«Они скрывались от мобилизации в лесах и при отходе Красной Армии стреляли в спину солдатам… Они называли себя кайцелитами»[1]. Лишь малая часть эстонцев (из малоземельных крестьян и некоторого слоя рабочих) «организовались в истребительные батальоны и храбро дрались рядом с частями Красной Армии против фашистской армады».
После первых кровопролитных дней войны пограничные части НКВД, в которых служил мой дедушка, были разгромлены. Одни оборонялись до последнего, другие отступали, огрызаясь огнем и теряя раненых.
В одном из таких боевых столкновений побывал и мой дедушка. Оно произошло между отступающими пограничными частями НКВД (из города Хаапсалу) и немецким десантом, высаженным у города Пярну в районе деревни Керблы. Для удержания деревни Керблы был сформирован сводный отряд НКВД. В него вошел и мой дедушка. Именно в районе этой деревни и произошло его первое боевое крещение.
Наступление фашистов было таким стремительным, что провалилась не только операция по захвату (возвращению) Пярну, но и отступление. Все дороги уже были заняты немецкими войсками — танками, пехотой, мотоциклистами.
Здесь дедушка упоминает о своих ощущениях в бою и подробно описывает, как он сам лично убивает живых людей. Мой дедушка ощутил себя «зверем на зверей в эту минуту». Мне эта жестокость непонятна. Но для него в середине августа 1941 года война стала просто работой.
«Мы оказались отрезанными от своей части. Начали отступать. По пути бросили пулемет, так как с ним невозможно было пробираться и патронов к нему не было. Стало смеркаться. Немецкая артиллерия перевела свой огонь дальше, по-видимому, по отходящей нашей части. Я… взял направление движения на Таллин по компасу, который я хранил еще с заставы… До Таллина предстоял путь 50 километров по прямой. Обходил села, хутора, дороги, так как всю эту местность заняли фашисты».
Четверо суток без еды мой дедушка шел к Таллину. Когда стало понятно, что для дальнейшей дороги сил нет, он зашел на хутор, отдельно стоящий около леса.
«Вычистив автоматы, мы подошли к дому. В огороде работали женщина и старик. Я подозвал их, подходя к огороду, и попросил хлеба или чего-нибудь покушать. Она пригласила в дом. Я их предупредил, что если что-нибудь случится или будет угрожать опасность, то перестреляю их первыми. Зарядил гранаты и зашел в дом вместе со стариком и старухой. В доме оказалась еще девушка, которая принесла воды умыться. Я действительно был грязным, лазал по земле четверо суток. Старуха принесла на стол хлеба, молока, масла. Наевшись, закурил, дал закурить старику русской махорки, оставил хозяйке 15 рублей денег (которые она не хотела взять) и пошел по своему направлению».
Он отошел от хутора метров на пятьсот и пошел по сухому болоту с мелким сосняком и высокими кочками, где росли черника и голубика. Шел и ел ягоды. Вдруг дедушка заметил, что по направлению к хутору (а значит, и к нему) идут пять человек: двое мужчин (один в военной эстонской форме, а другой в синем комбинезоне) и три девушки.
«Они приближались, громко разговаривая на эстонском. Эстонец в военной форме был с винтовкой за спиной… Высокие кочки служили для меня хорошей маскировкой. Я… бесшумно загнал патрон в патронник, зарядил гранаты и приготовился к решительным действиям. Эстонец в синем комбинезоне в 10–15 метрах от меня наклонился и стал собирать ягоды с большого куста. В кармане брюк, под комбинезоном торчала рукоятка нагана. Другой эстонец встал ко мне лицом в 20–22 метрах рядом с подошедшими девушками. Меня заметила одна девушка. Она побледнела и замерла. Я вскочил на ноги… и закричал: „Руки вверх!“ Девушки закричали не своим голосом и бросились бежать. Эстонец с винтовкой пытался снять ее из-за спины, но моя первая пуля сразила его, а вторую я пустил в другого, успевшего повернуться ко мне лицом. Этот в комбинезоне зашатался, дергая правой рукой за карман, по-видимому, пытаясь вытащить наган, и бросился бежать. Четвертую пулю я пустил ему в голову, прицеливаясь с колена… Я подошел к убитому эстонцу, вытащил с кармана его наган. Я… бросился бежать и бежал несколько километров. Успокоился я, когда настала ночь».
Это поразительно: с одной стороны, дедушка оставляет хозяйке хутора деньги (хоть и ненужные) за постой и еду, с другой — убивает около хутора молодых людей с оружием («врагов»?).
На четвертые сутки он вышел недалеко от Таллина к какому то строительному батальону, стоявшему в обороне.
«Нас накормили и указали место нахождения нашей части».
Часть дедушки держалась жестко и все-таки останавливала наступление врага. Бои пошли уже в городе. Потери были настолько большими, что, в конце концов, в части, к которой был откомандирован мой дедушка, остался только он и его напарник — боец эстонского истребительного батальона.
«Я притащил ротный миномет, оставленный кем-то на поле боя, и 12 ящиков мин (по 35 штук в ящике). Мы установили миномет под бугром, за бетонным забором. Мы вели огонь с десяти часов утра и до пяти часов вечера 28 августа 1941 года, пока не перестреляли весь запас мин. Когда все мины были перестреляны, мы бросили миномет в колодец и расстались».
Дедушка пошел в Таллин. Обстановка в городе оказалась ужасающей.
«Я пошел на баррикады, а там не было единого командования, командовал всякий, кто хотел защитить Таллин. На другой день на нашем участке не оказалось ни одного среднего командира, и совсем немного оставалось бойцов и младших командиров. Куда все девались, я не мог знать. Думал, быть может, занимают оборону в другом месте».
Но днем 29 августа 1941 года дедушке сообщили, что Таллин сдан, что эстонское правительство улетело в Москву, а многие советские генералы и офицеры, бросив остатки эстонской группировки войск, на военных судах переправились в Ленинград. Военные корабли в гавани не брали на борт сухопутные части.
Обреченные люди были в панике.
«Они искали лодки, чтобы добраться до наших военных судов, но целых лодок не было, а людей, вышедших в море на найденных лодках, переворачивало из-за перегруза и сильно большого ветра».
Мой дедушка попытался пробиться в порт.
«Ехали наши солдаты на автомашине, я попросил, чтобы меня взяли. Они ехали в минную гавань, где, по их словам, должны были нас посадить. Мы проехали весь город мимо горевших домов, складов, машин. К гавани проехать было нельзя, вся улица была забита тысячами разбитых и целых автомашин, танками, орудиями. Мы оставили машину, и пошли пешком. У берега толпилось несколько тысяч солдат и офицеров».
Балтийский флот стремительно ушел из Таллинской гавани, оставив сухопутные части в ловушке. Флот бросил на берегу сотни тысяч людей, которые должны были послужить „пушечным мясом“ и погибнуть, прикрывая отход основных частей флота. В гавани, наполненной толпой красноармейцев, краснофлотцев, командиров, возникла паника. И тут прозвучал голос какого-то полковника: „Проберемся по суше мелкими группами в Ленинград“.
Из оставшихся на берегу Таллинского залива бойцов и офицеров на скорую руку сформировали боевые роты и послали их на прорыв вдоль залива.
«Так несколько тысячная толпа (я не могу назвать это армией, так как никто никому не подчинялся, лишь общие стремления заставляли теперь идти вместе) дошла до дороги Таллин–Палдиски».
Дедушка во взводе оказался единственным военнослужащим, кто «имел компас и карту и мог по ним ориентироваться». Их небольшой отряд направился к городку Палдиски.
Городок Палдиски находился в противоположной стороне (в ста километрах) от Ленинграда. Зачем им нужно было туда идти? Может, надеялись, что их подберет какой-нибудь прорвавшийся в гавань Палдиски советский военный корабль?
Отряд вышел неподалеку на нужную дорогу от Палдиски, и стали продвигаться к нему, и пошли по ее правой стороне.
«И вот впереди на дороге мы увидели колону танков — это были вражеские танки. Они открыли огонь. Сотни убитых и раненых остались на небольшой площади».
Оставшиеся в живых бежали, куда глаза глядят. Мой дедушка тоже бежал. В своем дневнике он пишет:
«Я, Домородов, Николай и еще несколько человек бежали по направлению к заливу. Долго была слышна пулеметная стрельба. Стало темнеть. Наша группа состояла из 12 человек».
Дедушка получил второе ранение (осколком в левую ногу ниже колена).
«Я мог идти, но рана сильно мешала, а потом стала левая нога опухать, но тогда я не хотел обращать на это внимания».
Отряд взял курс на восток по лесам, обходя большие дороги, деревни, города.
«Шли четверо суток без пищи… некоторые продукты (перегнившие и брошенные корнеплоды и капусту), которые мы доставали ночью с крестьянских огородов, мало помогали, и нам уже было трудно двигаться».
Голод достиг такой степени, что они решили зайти в близлежащий дом-хутор, чтобы набрать продуктов.
«С наступлением темноты мы подошли к дому. Дверь была на замке. Я начал вытаскивать пробой, но от сараев шла женщина, и я перестал ломать. Она была сильно напугана. Обещав нас накормить и дать то, что нам надо, она открыла замок. Я спросил, где ее муж. Она ответила, что в сарае. Я велел позвать. Она крикнула его по имени. Пришел мужчина средних лет. Когда подошел, начал говорить по-русски с небольшим акцентом. Он также не отказал нам в нашей просьбе».
«Мы сразу бросились за стол, не зная с чего начать. Я ел стоя. Домородов сел. Зашел и Николай, говоря, что никакой опасности нет».
Да и зачем было нести караул, если сам «хозяин утверждал, что к нему никто из немцев или кайцелитов не ходит»? Но что-то все-таки насторожило моего дедушку — «запах чуждого», напускное радушие хозяев? А может быть, слишком уж было тихо вокруг? Словом, дедушка торопился уйти с хутора как можно быстрее.
«Я сказал хозяину, что через пять минут мы уйдем, и пусть он приготовит пакеты с продуктами нам на дорогу».
Хозяин попытался задержать их, предложив водки, и даже выпил сам, показывая, что водка хорошая. Дедушка «отказался и посоветовал никому не пить, потому что нам нельзя пить, пока не доберемся до своих». Он стал собирать пакеты с едой в сумки и просил то же делать и своих товарищей — Домородову и Николаю.
«А они по-прежнему ели быстро и что попало и не понимали моей тревоги».
Тут послышался стук в дверь, «стук, который был сильнее любого удара по уху. Мы вскочили на ноги». Дедушка попытался узнать у хозяина, кто может стучаться, но хозяев уже не было рядом (они спрятались за печку). Дедушка понял, что они оказались в ловушке.
Дальнейшие события этого дня дедушка узнал позже, придя в сознание, в бане.
«Здесь я пришел в сознание. Через окно светила луна. У меня болела голова, и я не мог ни пошевелить правой рукой, ни глубоко дышать. Хотелось пить. Я не мог понять, где я. Мне казалось, что это все сон. Почему я вижу окно, луну, какую-то лавочку, неровный пол? Я понял, что кто-то лежит рядом. Кто он? Черная шинель, рядом с головой бескозырка без ленты. Да это же Домородов! Где же Николай? Тяжело было говорить, потому что во рту было сухо. Я позвал Николая, и что-то кольнуло в грудь. Николай отозвался слева от меня. Значит, мы вместе, но где?»
Дедушка еще был уверен, что он не в плену, что его товарищи вырвали его из рук врага.
«Домородов стонал. На груди, через расстегнутый ворот рубахи было видно что-то белое. Я потрогал это левой рукой. Оказалось, что это были бумажные бинты».
Тогда дедушку и обожгла мысль, что это плен.
«Я в плену, о чем никогда не мог подумать раньше. Если бы кто-нибудь мне сказал раньше, что можно попасть в плен так, как попал я, то я бы вряд поверил ему. Мне не хотелось верить, но это было очевидно: мы в плену, и завтра кайцелиты передадут нас немцам. В открытое окно смотрит кайцелит, рядом с головой торчит штык и дуло винтовки. Как теперь быть? Бежать? Но как? Быть может, счастье еще улыбнется, и будет еще возможность держать в руках оружие. Ох, и дураки же мы, зашли в дом».
Дедушка очень сильно переживал плен.
«Мысленно прощался я со всеми, и вся моя жизнь прошла перед глазами».
Дедушка вдруг понял, что теперь он оторван от Родины и что «она не признала мою любовь». Дедушка никогда не плакал, а «при этой мысли мои глаза заливались слезами. Для меня было лучше умереть, чем быть в плену».
Дедушка понял одно, что наступает самый страшный период в его жизни — период плена.
Лето 1941 года. Таллинская крепость
Бессонная ночь в бане закончилась.
«Утром открылась дверь, и нас вызвали на улицу».
Около бани стояла повозка, запряженная парой коней. Рядом с повозкой стоял немец.
«Я же вышел сам. Домородова вынесли Николай с эстонцем и положили в повозку».
Дедушка был очень слаб, чтобы забраться на повозку самостоятельно (мешала рана, полученная во время ночной стычки).
«Я забрался на повозку с помощью Николая. У меня кружилась голова, и правая рука не могла удержать тело».
Когда пленных размещали в повозке, подошла эстонка с куском хлеба, но ее прогнали. Конвоиры вели себя мирно.
«Они нас не трогали и ни о чем не спрашивали».
Сначала пленных довезли до немецкой комендатуры, где пересадили на автомашину вместе с двумя солдатами и довезли до Таллина.
«Немец нас с Николаем повел в Таллинскую крепость».
Когда дедушка с Николаем вошли в Таллинскую крепость, то увидели страшную картину: «посреди крепостной площади толпа людей в русских шинелях дрались между собой, толкая друг друга, хватая что-то с земли и друг у друга из рук». Когда он с напарником подошел ближе, то толпа уже разошлась во все стороны. Неподалеку ходили люди, согнувшись, собирая что-то с земли. Дедушка подошел к одному из них. Тот собирал в каску кусочки сухарей размером с горошину.
«Я спросил его, почему он это делает и откуда здесь сухари. Он ответил мне грубо и безучастно, что завтра и я буду их здесь собирать, и коротко объяснил, что каждый день в крепость кидают три мешка вот таких сухарей, а людей здесь около трех тысяч. Поэтому и дерутся. Ведь каждый хочет жрать».
Первая картина лагерной жизни очень поразила дедушку, но совсем скоро они станут обыденным явлением.
В Таллинской крепости были пленные всех родов войск и всех званий.
«Здесь были пехотинцы, моряки, артиллеристы и танкисты, красноармейцы и командиры: лейтенанты, капитаны, майоры. Люди со средним и высшим военным образованием…»
Но, как вспоминает дедушка, «хмурые лица лейтенантов, капитанов, майоров (людей со средним и высшим военным образованием) не отличались от всех остальных». У дедушки создалось впечатление, что здесь была собрана одна лишь серая масса, потерявших всякую надежду на жизнь людей.
«Многие сидели уже по 4–5 дней, не получая ничего, кроме трех мешков горелых сухарей в день на всех. Было много раненых, которые не могли двигаться».
Как отмечал в своих воспоминаниях дедушка, люди в Таллинской крепости были собраны фашистами с одной целью — уменьшить число живых. Разговоры среди пленных ходили разные.
«Одни говорили, что для фашистов все равно, где заморить нас голодом — здесь (даже здесь лучше, так как трудно бежать) или в другом месте; другие говорили, что скоро должны куда-то отправить».
Именно в крепости стало понятно, кто на что способен — на предательство или на взаимопомощь. В плену значение играет физическая сила, выносливость и беспощадность, а в Таллинской крепости у моего дедушки почти не было шансов выжить без чужой помощи. Ведь он был ранен и не получал поддержки от Николая, с которым попал в эту крепость. Тот был здоров, не ранен и не покалечен. Ему удавалось в борьбе выхватывать больше горелых сухариков, а делиться он ими не хотел, поэтому старался не показываться дедушке на глаза. Вспоминая о поведении Николая, дедушка говорит:
«Я, конечно, не стал бы их (горелые сухарики) у него просить, но мне хотелось иметь товарища, чтобы с кем-нибудь поговорить, успокоиться, но я никого не находил».
Дедушка стал искать новых товарищей среди пленных. Но не нашел их.
«К кому я ни обращался, все были заняты своими мыслями, мой разговор оказывался для них скучным. Я заводил разговор о будущем. Этот вопрос интересовал всех пленных, но никто не хотел говорить об этом, так как для пленных Таллинской крепости не было будущего».
Чем они жили?
«Некоторые — чуть брызжущей надеждой, а их многие соседи уже отчаялись и были уверены, что ничего уже изменить нельзя».
Эта безысходность отразилась в массовых самоубийствах.
«Многие из пленных кончали жизнь самоубийством: бросаясь со стен крепости, бросались на часового, вешались; многие умирали от ран, от истощения».
Как вспоминает сам дедушка:
«Я пробыл в крепости три дня. За это время мне удалось съесть лишь один сухарик грамм на пятьдесят. Но меня мучил не голод, а мысль о смерти в этой крепости от полученной раны. Материи для перевязки не было. Я сам перевязывал себя, разорвав свою грязную рубашку на бинты. Плечо и рука опухли, стала опухать грудь. Это сопровождалось сильной болью, и я часто терял сознание и не мог заснуть». В борьбе с болезнью моему дедушке помогал холод, «так как ночью камни, на которых мне приходилось лежать, покрывались инеем».
К счастью для дедушки, через три дня после его пребывания в Таллинской крепости немцы стали вывозить оттуда оставшихся в живых людей. При этом основное различие для них было: живой — мертвый. Они бросали в кузов пленных, не разбираясь, раненый этот человек или обессиленный. Моему дедушке повезло. Его забросили в кузов. Машина с пленными двинулась из Таллинской крепости.
Лето 1941 года. Виляньдиский лагерь
Машина с пленными шла весь день. Дедушка вспоминает:
«Ночью нас высадили в поле и повели по грязи. Многие были в тревоге: вдруг ведут на расстрел?»
Голодным, обреченным на смерть и истощенным до предела людям эта мысль казалась реальностью, но об этом никому не хотелось даже думать.
«Расстреливать нас не стали. Нас довели до будки. От будки отходило влево и вправо проволочное заграждение в три ряда, со спиралью посередине, высотой около трех метров. По линии проволочных заграждений бил луч прожектора, освещая будку, куда нас привели и нашу площадку».
В этой будке их обыскали (изъяв все запрещенное) и загнали за линию проволочных заграждений. Далее они двинулись по грязи к какому-то сооружению.
«Оно чернело от нас в сотне метров. Около нас, пока мы шли, справа и слева шатались полумертвые фигуры. Это были пленные. Их лица были не видны, и я не мог понять, почему они ходили здесь по грязи. Когда мы стали подходить ближе к этому чернеющему сооружению, то поняли, что это всего лишь сарай, закрытый и имеющий три стены. С нашей стороны стены не было. В грязи у сарая лежали трупы. Из сарая, словно из-под земли, доносился гул и стон, но криков слышно не было».
Моему дедушке стало тяжело на душе и страшно. Он выкрикнул ту одну фамилию, которую запомнил: «Копылов!» Тот отозвался. Поговорив, они решили держаться вместе. Дедушка вспоминает, что «в Виляньдиском лагере Копылов оказался верным другом и хорошим человеком». Дальше они вместе пройдут через многое, и кто знает, читала бы я сейчас эти строки, если бы мой дедушка не обрел такого друга.
Лагерь, в который привезли моего дедушку, был обычным перевалочным пунктом для русских военнопленных. Здесь не заставляли работать, не вербовали на сторону немцев. Здесь просто уничтожали «ненужный материал».
«По всему лагерю шаталось несколько тысяч полуживых душ. Сесть или лечь было некуда. В темноте, когда полицейские не видели, садились на трупы или ложились на них, стаскивая несколько трупов вместе, но лежать можно было безопасно только от часа до пяти, когда полицейские не ходили по лагерю. Мы с Копыловым шатались всю ночь. Становилось тяжело и страшно, возникала мысль, что и нам скоро придется лежать в этой грязи недвижимыми. Бежать? Но это казалось невозможным. С каждого угла ночью прожекторами и лампочками освещались заграждения. По углам были вышки, где сидели охранники с пулеметами. На наших глазах перестреляли трех человек, подошедших к проволоке. Все, что мы увидели в эту первую ночь, лишило нас надежды на удачный побег, да и на жизнь вообще. В эту ночь мы пережили то, что казалось страшнее смерти».
Стало рассветать и дедушка смог рассмотреть весь «пейзаж этого наземного ада». Каждый из пленных в лагере стремился одеть на себя как можно больше одежды, чтобы хотя бы немного сохранить тепло.
«Живые все время ходили, чтобы хотя бы немного согреться. Теперь стали хорошо видны лица пленных. Большинство из них были черно-синие или бледные до синевы, обрызганные грязью».
«Когда стемнело, мы стянули вместе три трупа и легли на них спать, укрывшись шинелями, что сняли с этих же мертвецов, — вспоминает дедушка. — Пошел мелкий дождь. Было холодно. Засыпали на час, а другой час ходили грелись».
Так продолжалось каждый день.
Второй день для моего дедушки прошел спокойно.
«Мы с Копыловым благополучно получили свой паек и „доплату“ — всего только по одному удару дубиной по спине за то, что не успели вовремя снять пилотки, в которых наливали баланду. Баланда показалась нам очень вкусной, а хлеб, от которого на зубах оставались кусочки дерева, еще вкусней. Мы съели все до крошки и пошли по направлению к сараю. Мы подошли к толпе, откуда слышалась песня. Ее пел пленный, такой же худой, как и все мы. Слушая ее, многие плакали, некоторые были суровы и задумчивы, но слушали все, и всех как гипнозом охватила эта песня. Я разобрал всего два последних куплета:
Эх, ты, Русь, ты моя дорогая,
Не придется вернуться к тебе.
Кто вернется, тот век не забудет,
Все расскажет родимой семье.
Все расскажет, покатятся слезы,
Выпьет рюмку, вскружит голова.
Дай судьба нам вернуться до дому — Продолжать трудовые дела».
Услышав эту песню, дедушка ощутил душевный подъем, захотелось жить дальше.
«Певца просили, чтобы он спел еще раз, но он отказался:
— Мне, товарищи, тяжело петь. Я составил эти слова и спел для товарища, но какая мне будет польза, если я исполню ее еще раз?
Из толпы слушателей, толкая обеими руками доходяг, вышел полицейский, подошел к певцу и спросил:
— А для меня будешь петь?
— Пожалуйста, господин полицейский, но для вас это будет неинтересно, — ответил он покорно, но внятно своим тихим голосом.
— Сначала скажи, кто ты такой есть? Артист? Коммунист? Или жид?
— Я русский, и никакой я не артист и не коммунист.
— Ну ладно, постой тут, пока я не приду, — сказал он повелительно и грубо, уходя к кухне. Через несколько минут полицейский вернулся с буханкой хлеба и приказал петь. Певец повторил эту песню, стараясь вложить в нее больше чувства, но голос его обрывался. Когда он закончил петь, полицейский отдал ему хлеб и приказал съесть все сразу же. Взяв буханку, певец обрадовался и стал, не жуя глотать хлеб. Потом стал ломать на кусочки и есть медленно. Его истощенный желудок был уже перегружен — ведь в буханке было около двух килограммов.
Полицейский же кричал:
— Жри быстрее! Еще десять минут сроку. Не успеешь — искупаю в ванне (так он называл уборную).
Певец проглотил последние куски уже сидя в грязи. Полицейский ушел смеясь. А певец лег в грязь и умер, держа в левой руке бумажку, на которой была записана простым карандашом песня. Ее потом пели все пленные этого лагеря, и она дошла с некоторыми изменениями и в другие лагеря, а после четырех лет и в Россию».
Мой дедушка провел в Виляньдиском лагере жутких 14 дней.
Вторая половина 1942. Кивиыли
Лагерь Кивиыли тщательно охранялся. Он находился возле «сланцевой горы» или «памятника пленным», как ее называли сами пленные из-за того, что туда выкидывалось все: отработки с завода, шахтная порода и умершие пленные. Ветром с горы мелкую пыль, золу, сажу разносило по заводу, по поселку, по полям. Пылью были покрыты все крыши домов, улицы, огороды. Когда моего дедушку с напарниками подвезли к входу в лагерь и высадили у фабрики, то все прочитали на крыше центрального здания надпись: «Сумей убежать», начерченную палкой на осевшей пыли.
«Полицейские указали нам место, где мы должны были разместиться. Это была комната в 15–16 кубических метров. Здесь уже размещалось 12 человек, но они сейчас были на работе».
В момент заселения в комнате никого не было. Мой дедушка осмотрелся и определил, что пленные спали на нарах и на полу на рваных пиджаках и шинелях. Через несколько часов пленных пригнали с работы.
«Один за другим грязные, с желтыми лицами они входили в комнату и садились на нары и на пол. С нами никто не здоровался, это правило было забыто в лагерях смерти. Потом все же один усатый спросил у нас, откуда мы и когда нас привезли? И опять наступила тишина».
Так для моего дедушки началось продолжение плена на новом месте.
«Строили в колонну „по пять“, угощая неувертливых шлангом по лицу. Пришел начальник лагеря, молодой эсэсовец. Это был настоящий зверь: бил пленного, даже если ему не нравился его взгляд. Он пропускал по одному, проверяя на всех ли вещах видно SU. У нас еще не было этих букв, и нам полицейский намазал их красной масляной краской на всей спине, на брюках и на головных уборах. Буквы SU означали Sowjet Union по-немецки, но пленные расшифровывали по-своему: сумей убежать, споймают — убьют. Строго проверяли, чтобы не было ни одной вещи без этого клейма, но это не удерживало пленных — убегали при первой возможности».
Впервые мой дедушка встретился с надписями на одежде, с нежеланием вести разговоры, так как на это не только не было сил, но был и страх предательства. В то же время у пленных хватало сил на «черный юмор». Эта ирония поддерживала, помогала отвлечься.
Рабочий день в лагере начинался очень рано.
«В три часа был подъем. Через десять минут после свистка в бараки заходили эстонские кайцелиты и били сапогами и шлангами тех, кто не встал. Выдавали на завтрак 150 граммов хлеба и кипяток. Нас всех четверых загнали в сланцевую шахту и вручили карбидные лампы и рваные резиновые сапоги. В шахте мы копали ямы, куда собиралась грунтовая вода. Оттуда мы ее потом выкачивали. В этих же ямах фашисты „купали“ заключенных, которые не выполняли норму».
Что такое норма для заключенного лагеря? За 12 часов заключенный должен был выполнить работу, которую здоровый человек выполнил бы за 8 часов. Поэтому «купанию» подвергалось большинство заключенных Кивиыльского лагеря. Многие получали воспаление легких, а ревматизм ног имели почти все. В таких условиях выдерживали не больше трех месяцев. Около 20 человек каждую неделю умирали. После того как большинство заключенных лагеря перестали выполнять норму, ввели неограниченное время работы — пока не выполнил нормы, из шахты не выйдешь.
Через такие испытания пришлось пройти моему дедушке и его товарищам.
«Копылов проработал одну неделю — ему породой сломало правую руку, и его положили в санчасть. Иванова прибило насмерть».
Безысходность существования и конечный результат — смерть — заставляли пленных совершать необдуманные поступки, почти самоубийства.
«Размыслова убили. Это произошло следующим образом. Нас конвоировали с работы. Размыслов выбежал из строя, чтоб подобрать хлеб, выброшенный на железнодорожные пути каким-то пассажиром. По нему сделали два выстрела, но не попали. Он встал в строй со мной рядом, пряча хлеб под пиджаком. Охранник прошел вперед и назад, но ничего не сказал. Когда мы подошли к лагерю, Размыслова оставили у ворот, а потом отвели к охране. Он пришел через час в комнату с исцарапанным лицом. Долго не отвечал на вопросы, а потом рассказал, как его били. Утром он мне сказал, что ему повредили почку, так как он ночью мочился в постель, ничего не чувствуя. На работу он пошел, но работать не стал, говоря эстонцам, что болен. Они его номер записали. Вечером, когда охрана пришла за пленными, он вышел. Когда я после работы вышел с шахты, то услышал глухой удар у будки охраны и увидел, как Размыслов бежал к забору завода, а по нему стреляли охранники. Он упал. Пули попали в руку, грудь и голову. Он был мертв. Около будки нашли кайцелита (который за день до этого бил Размыслова) с разбитым черепом. Оказывается, Размыслов забрался в будку и ломом ударил фашиста по голове, а потом побежал на охрану. Тело Размыслова бросили в вагонетку с золой и выбросили на сланцевую гору. Зола и порода похоронила его на верхушке горы».
Возможно, Размыслов пошел на это, чувствуя, что скоро умрет.
«У меня глаза наливались кровью, когда я смотрел на этих фашистов. Я перегрыз бы горло за любимого друга».
Так у моего дедушки единственным другом остался Копылов, да и тот лежал в санчасти.
Мой дедушка работал в шахте лагеря около месяца. С каждым днем он чувствовал все большую слабость. Уже в начале лета дедушка с шахты выходил, опираясь на плечи товарища.
«Он отпустил меня, но, даже приложив все усилия, я прошел всего несколько шагов и упал без сознания. Охрана подумала, что я притворился, и избила шлангами. Меня на носилках принесли в санчасть».
Там мой дедушка встретился с Копыловым. Именно там возникла идея побега.
«Копылов лежал в санчасти уже больше месяца. Хотя рука его еще не зажила, но его хотели выписать. Я же, пролежав там всего три дня, выписался вместе с Копыловым».
Калек и очень слабых водили поправлять воздушные люки шахты. Охрана была слабой: два охранника и мастер-эстонец. Этим мой дедушка с Копыловым решили воспользоваться. Осталось только выбрать время и день. Побег вышел спонтанным.
«Первый день охранники смотрели строго. На второй день во время перерыва пошел дождь, и охрана села под елку обедать. Нас посадили напротив, под другими одиноко стоящими елками. От охраны (которая якобы наблюдала за нами) нас отделяло несколько десятков метров».
В этот момент мой дедушка и решился на побег.
«Казалось, убежать было нельзя. Я лег и начал ползти по совсем небольшой лощинке, смотря в сторону охранников. Махнув рукой Копылову, я пополз дальше к лесу. Копылов предупредил товарищей, чтоб они молчали и не смотрели в нашу сторону, и пополз за мной. По кустам мы двигались на четвереньках, а когда добрались до высокого соснового леса, то пошли стоя, сколько было силы. Бежать не могли, но старались шагать широко и часто».
Когда беглецы прошли более километра, то услышали стрельбу сзади. Они продолжали двигаться в глубь леса и обманули преследователей.
«Стрельба стихла. Мы были одни в лесу и почувствовали себя на свободе. Едва ли охрана лагеря могла найти наши следы. Но врагов было много: почти каждый эстонец был для нас опасен. Любой шорох вызывал тревогу. Мы шли и шли все дальше. Свобода, надежда, ненависть — вот что давало нам силу и энергию».
Вторая половина 1942. Побег
Это был первый настоящий побег моего дедушки. Бежали они с Копыловым не по плану, а от безысходности — еще немного и они, если бы не умерли, то были бы отправлены в лагерь Тапа. Там гарантированная смерь, а не зловещая неизвестность. Двигались беглецы по ночам, а днем спали, попеременно сменяя друг друга. Тот, кто не спал, долбил ножиком, который сохранился у моего дедушки с лагеря (впоследствии мы его так и не нашли), трубку для курения. Шли на восток, по звездам определяя направление. Главной задачей беглецов было: достать оружие и продукты.
Двигались беглецы к Чудскому озеру. Они решили обойти его с севера и переправиться через реку Нарва. К своей цели они двигались 16 суток. На семнадцатые сутки погода была хмурой, и шел мелкий дождь, поэтому беглецы спали в сарае на очередном хуторе на сеновале. Во сне мой дедушка увидел, как «он плавал в воде, а потом какие-то противные люди схватили его багром за волосы и вытащили из воды, ободрав его тело до крови». Сон сном, но, когда дедушка открыл глаза, он обнаружил, что его разбудил шумом крыльев ястреба, который «залетел в сарай». Ястреба они быстро поймали и съели, «но Копылов сказал, что это к плохому». Потом мой дедушка рассказал ему свой сон, и Копылов сказал, что это тоже к плохому.
Днем, съев последние запасы пищи, беглецы решили немного пройти на восток. Солнце было ярким и жгло, но они не сняли черных перевернутых шинелей (перевернули, они их, чтобы не было видно букв SU), так как рваные рубашки их бы выдали.
«Мы считали, что эстонцы (кроме старых и молодых) косят сено для скота на зиму и поэтому войти в дом вполне безопасно, чтобы попросить необходимое, а если в дому никого не окажется, то украсть необходимое».
Они начали искать очередной хутор, который вскоре обозначился на пути беглецов.
«Вскоре мы заметили одиноко стоящий дом у самого леса. Сараев около него было много, значит, хозяин был богатый».
Беглецы залегли в метрах пятидесяти от усадьбы и стали наблюдать, чтобы определить, есть ли кто в доме. Пролежали они более двух часов.
«Во двор выходила старуха с ребенком. Казалось, что в доме только они, а молодые на работе».
Мой дедушка с Копыловым рискнули и пошли к хутору. В огороде они нарвали табак и оставили его около бани, чтобы потом забрать. Потом подошли к крыльцу дома.
«В этот момент вышла женщина лет сорока с ведром в руках. Увидев нас, обросших, в странной одежде, быстро повернула обратно к двери, хотела зайти, но потом подошла к нам и спросила по-эстонски: „Wenelane?“ — русские?»
Что-то противное звучало в ее голосе, но, ни моему дедушке, ни Копылову не нужно было ее милое обращение, им нужны были продукты.
«Я подтвердил по-эстонски: „Ja“ — и спросил ее, где ее муж и братья. Она ответила не сразу, а потом, приподымая голову, сказала, что работают. Я сказал, что нам нужен хлеб и мясо. Она кивнула головой, и мы с ней вошли в дом. Копылов остался во дворе. Женщина прошла в комнату, оставив меня в передней».
Мой дедушка ее не послушался и вошел в комнату. Едва мой дедушка успел обвести глазами комнату, как вернулась женщина. Мой дедушка почувствовал опасность, когда посмотрел ей в глаза. Женщина не выдержала его взгляда и отошла за стол.
«В этот момент из комнаты вышел мужчина лет двадцати, желтый, худой, невысокого роста. Он тоже спросил, русский ли я, и хотел зайти назад».
Дедушка сделал скачок к двери.
«Мужчина отскочил в сторону. Я бросился к выходу. Когда я очутился в коридоре, то увидел мужчину, заряжающего винтовку. Я бросился на него. Началась борьба за оружие. Прогремел выстрел. Пуля пролетела под левой рукой. На меня сзади накинулась женщина, но я ударил ее локтем в грудь, и она отстала».
Придерживая левой рукой винтовку, мой дедушка правой рукой полез в карман за ножом, «но тут я почувствовал удар по голове, потом другой». Больше он, потеряв сознание, ничего не помнил.
Когда мой дедушка пришел в сознание, то обнаружил, себя лежачим на полу лицом вниз в луже крови. Дедушка начал осматриваться.
«Приподняв голову, я увидел стоящего хилого эстонца, еще одного, которого я не видел, и женщину. Они рассматривали разбитый о мою голову приклад».
Кружилась голова, хотелось пить. Дедушка попытался встать. Эстонцы вытащили его во двор. И посадили рядом с Копыловым, который сидел на земле недалеко от крыльца. Он стоял снаружи, но, услышав крик женщины (она закричала после удара моего дедушки), бросился на помощь и после недолгой потасовки получил две пули в конечности. Эстонцы явно не знали, как поступить с беглецами.
«Я попросил у женщины пить. Она ответила, что коммунистам и бандитам дается только виселица, и указала на кадушку с грязной водой. Мы напились. Как из-под земли стали собираться вооруженные эстонцы».
Мой дедушка понял, что побег провалился.
«Ну что же, Миша, такая уж наша участь — умереть без пользы в какой-то проклятой Эстонии. Мы с тобой еще успеем попрощаться».
Через час или больше прибежали немцы из комендатуры во главе с офицером и с собакой. («Их было человек 10–15, мы не считали»). Беглецы были подвергнуты первому допросу.
«Они спросили, кто еще был с нами. Я ответил, что еще пять человек. Пусть ищут. Спросили наши фамилии. Мы ответили, что Иванов и Петров. Офицер писал, а переводчик расспрашивал эстонцев. Когда закончили писать, подошел к нам офицер с переводчиком, который зачитал акт и дал подписать. Мы отказались в силу «неграмотности». Офицер не удивился и сказал через переводчика, чтобы мы поставили крест. Я держал акт вверх тормашками, и офицер перевернул акт, чертя пальцем крест. Я деловито взял карандаш и поставил крест на весь лист. Офицер сначала весело рассмеялся над моей «глупостью», а потом ударил сапогом несколько раз по плечам, по спине, пока не повалил на землю. Офицер пошел переписывать акт, но подписывать его больше не приносили».
На повозке беглецов повезли в комендатуру, где они переночевали в сарае под усиленной охраной.
«Утром нас повезли на повозке на железнодорожную станцию, которая находилась в 27 километрах от Нарвы. На поезде нас отвезли в лагерь города Тапа».
Они не дошли до линии фронта всего около 27 км (9–11 часов).
Их привезли в лагерь Тапа, который находился у самой станции. Бывших беглецов выгрузили из повозки у проходных ворот. Там дедушка с Копыловым просидели в карцере 32 дня.
«Я весил 42 килограмма, а Копылов — 39».
Но друзья выжили и даже нашли потом способ подкормиться, используя лагерный «базар», который, как и во всех других постоянных лагерях для военнопленных, находился на «plaze» (центральная лагерная площадь).
«Из санчасти мы выходили в общий двор лагеря на базар, чтобы выменять за суп табак. Торговля шла за русские деньги (при условии, что денег не у кого не было). Базар был богатым. Русские же пленные здесь продавали мясо, сало, хлеб, яйца, жареных и вареных ежей, одежду, табак».
Мой дедушка задался вопросом: «Откуда все это берется?» Ответ оказался на поверхности.
«Несколько человек перебежчиков (люди, которые добровольно перешли на сторону к немцам) ходили под охраной работать к эстонским кулакам, и они давали продавать продукты в десять раз дороже, чем вне лагеря, на чем наживалась и охрана».
Перебежчики жили в отдельных бараках и получали большую пайку. Из них немцы набирали лагерных шпионов. Впоследствии из них сформировали Власовскую армию. Вечером по одному они боялись выходить, так как их убивали за цигарку. Супу (даже при их продажности) перебежчикам давали недостаточно, поэтому мы меняли у них табак на суп («котелок супа за 5–6 цигарок табаку»). Более «бедные» пленные продавали на базаре очистки картофеля, жареных мышей и вареных лягушек, травяной суп. Такой товар стоил дешевле.
Впервые дедушка говорит о Власовской армии (РОА) и принципах набора в нее. Из его рассказа можно понять, что в лагере немногие становились перебежчиками и уходили служить в армию генерала Власова:
«С лагеря начали отправлять эшелон, куда попали и все штрафники. При погрузке дали 500 граммов хлеба (с чем мы расправились сразу же) и последующие пять дней не давали ничего. В пути умерло 12 человек. Привезли нас в Польшу в старую крепость города Демблин».
Конец 1942-го. Демблинская крепость
Старинная крепость, превращенная немцами в лагерь для военнопленных, за 1941–1942 годы похоронила под своими стенами более 120 тысяч советских людей, умерших от эпидемий, голода и пыток. Крепость была опутана сотнями рядов проволоки, которые разделяли ее на зоны, блоки. В каждой зоне, блоке были разные порядки.
«В одном блоке немцы держали представителей южных народов СССР, в других блоках — представителей других народов СССР. Мы были в пересылочном блоке, и на нас немцы не обращали внимания, так как мы были предписаны на отправку в концлагерь. Никто ничего не работал. Пленные днем шатались по блоку, некоторые лежали, многие играли в карты на паек. Одни выигрывали и выживали, а другие проигрывали и умирали. Третьи торговали своими вещами, чтобы закурить или покушать. Русские полицейские бить штрафников опасались, так как при первой же возможности их убивали из-за угла».
Над бывшими полицейскими и перебежчиками, попавшими в барак, устраивали самосуд.
Ненависть к предателям породила жестокость. Их судили, но делали это формально, скорее развлекаясь, чем защищая, также формально, как и фашисты.
В январе 1943 года мой дедушка и Копылов попрощались с Демблинской крепостью.
«Нас штрафников погрузили в эшелон и везли трое суток без пищи. Из-за голода и холода в нашем вагоне умерло три человека, а с всего эшелона выкинули более сотни трупов».
Когда эшелон остановился и узников выгрузили из вагонов и построили в колонну, то мой дедушка сразу понял, что случилось самое страшное.
«По предписанию коменданта лагеря Тапа мы попали в концлагерь возле города Лимбург в Германии».
В этом лагере мой дедушка потерял своего лучшего друга по плену.
«Я тоже заболел и попал в изолятор. В это же время куда-то отправили и Копылова. Спустя 1,5 года через пленных я узнал, что он работает на шахте в Саарской области».
После войны они не встречались.
В лагере смерти, где находились не только мужчины, но и женщины, которым было, наверное, особенно тяжело, ведь им тяжелее было сопротивляться издевательствам, терпеть голод и побои.
«Недалеко от нас работали русские девушки. Они раскидывали или выгружали из вагонов дробленый камень на станции. Другие работали при дробильной фабрике. Всех их содержали в тех же условиях, что и нас».
Женщина в лагере — понятие само по себе страшное. В концлагере ей приходится всегда тяжелее, чем мужчине. Она не только рабочая сила. Охрана лагеря может использовать ее и для удовлетворения своих мужских желаний. И она (охрана) этим пользовалась. Часть узниц откровенно занималась проституцией.
«Они содержались в тех же условиях, что и остальные, но они имели большую возможность достать что-нибудь со стороны. Они ничего не делали, но хорошо одевались и хорошо ели».
Тех женщин, кто отказывался, немцы били и всячески над ними издевались. К узникам эти женщины относились по-разному.
«Одна часть женщин относилась к нам равнодушно, так как мы не могли предоставить им определенных лагерных льгот. Другие жалели и помогали нам. Третьи до такой степени были обижены своей судьбой и винили в этом нас, что просто не обращали на нас внимания».
Жизнь заключенного, попавшего в шахту, учит находить выход из совершенно безвыходной ситуации.
«Шили тапочки из сукна на резиновой подошве. Сукно приносили в лагерь немцы, а резину резали из конвейера. Раньше резали из старого, а как его убрали, стали резать из того, который был в эксплуатации. За это тоже расстреливали, а потом стали расстреливать всех, у кого при обыске находили резину. Конвейер начали охранять, но он был длинный, и, потушив свои лампы, подальше от охранника резали несколько метров резины и прятали в забое или штреке. На другой день их резали на куски и проносили в лагерь, как подошвы, прибитые к деревянным колодкам. За каждую пару немец давал 1–1,5 килограмма хлеба. Это была большая поддержка».
Вскоре немцы стали обыскивать при спуске в шахту. Они отбирали все, что находили. Пришлось узникам прекратить шить тапочки.
Вот тебе и бизнес в концлагере. Вот тебе и взаимоотношение между охраной и заключенными. Охрана проносит часть материала, а заключенные, рискуя своей жизнью, добывают вторую часть и изготовляют товар.
Союзники начали массированную бомбардировку Германии. Именно тогда мой дедушка понял, что война скоро окончится.
«В этот же день авиация наших союзников бомбила города Саарбрюккен и Нойкирхен. Когда налетали самолеты, немцы скрывались в бункерах, оставляя охрану на русских полицейских».
В момент бомбежки весь лагерь выходил во двор и наблюдал за ее ходом, радуясь каждой брошенной бомбе. Весь лагерь излучал одно — месть. Узники не испытывал никакой жалости.
Охрана делала все, чтобы склонить их к предательству.
«Они чувствуют гибель, они бояться подумать, что будут поставлены на колени. Они теперь хвататься за все самое последнее. Они восхваляют предателя Власова, они издают русские газеты, выдвигают лозунги „За Россию без большевиков“, они посылают пропагандистов из русских предателей, чтобы обмануть русских людей, чтобы рассеять надежду, говоря, что Сталин нас не признает, что мы останемся предателями. Все это смешно. Большинство им не верит. Знаем, что англичане высадили десант во Франции и продвигаются».
В чем-то фашисты были правы. Сейчас крылатую фразу Сталина о том, что у нас нет пленных, есть только предатели, знает большинство. Но тогда они верили, что Родина и Сталин им помогут. Думаю, что, даже зная об этой фразе, они не перешли бы на сторону врага. Даже когда дедушка писал дневник (воспоминания), он верил в Сталина. Позже он разочаровался в нем и однажды даже сказал моему отцу, что Сталин хуже Гитлера, так как погубил больше людей.
Там у моего дедушки случилась первая любовь.
«Через смену на другом элеваторе работали русские девушки. Однажды я встретился с девушкой лет девятнадцати, она была худа и бледна, с добрыми глазами и скромной улыбкой без радости. Она подала мне сверток, где был завернут хлеб, грамм на триста. Я взял и поблагодарил ее. Она приносила хлеб каждый день и, ничего не говоря, уходила. Когда нас перевели в другое место, то она стала передавать хлеб через подруг. Через некоторое время она попросила, чтобы я пришел к ней на элеватор».
Дедушка пошел к ней, проигнорировав охрану. Наверно, он был влюблен. Это видно из его описания встречи и той неуютности, которую дедушка чувствует.
«Она ожидала у входа. Я был одет плохо, с неделю не брился и был грязный. Она была одета лучше, все было подогнано и цело. Благодаря ее помощи я чувствовал себя лучше, но все еще был очень худой, поэтому я подошел к ней, как нищий подходит к покровителю, и поздоровался. Я был смущен, она это заметила и взяла меня за руки, села на брус, дав мне место. Я сел неуклюже, чувствуя все большую слабость. Она спросила, получал ли я хлеб. Я ответил, что получал и что она зря себя обижает».
Как в концлагере могут провести время два влюбленных человека?
«Маруся не смотрела на меня, по щеке капля за каплей падали большие прозрачные слезинки. Я хотел ее успокоить, но в моем положении мне казалось это невозможным, и я молчал, чувствуя и понимая ее горе. Когда мы уже прощались, она написала на бумажке свой адрес и записала мой. Я эту бумажку впоследствии потерял, запомнил только Смоленскую область».
Тогда дедушка не понял, что это было прощание.
«На другой день, утром, когда нас привели на фабрику, я встретился с ее подругой Валей, которая передала мне прощальный привет от Маруси: ее увезли. Я ничего не сказал. Мне было понятно все. Целый день я потом забывался и получал пинки и палки».
Любили ли они друг друга или же он испытывал только благодарность? Что было бы, если бы дедушка сохранил ее адрес? Разыскал бы ее (вдруг Маруся уцелела после концлагеря) или ее родных? Мне кажется, если бы они встретились, то им легче было бы вместе пережить тяготы жизни после плена.
В лагере Цвайбрюккен
Цвайбрюккен был разбомблен. Во время бомбежки союзников многие узники убежали, а тех, кто не успел, перестреляли. Поэтому лагерь был почти пуст.
«В нем осталось не более десяти тысяч военнопленных».
Узников водили рыть траншеи. Они слышали, как «англо-американцы обстреливали (не бомбили, а обстреливали) немецкие укрепления из тяжелой артиллерии». Они мечтали о скорой свободе.
В это время и мой дедушка попытался осуществить очередной побег. Он нашел напарников.
«Я познакомился с бывшим младшим лейтенантом Николаем Балаклийским и Сашкой Татарином. Сашка Татарин спекулировал в лагере. Продавал хлеб за табак, покупал на него зажигалки, которые менял на хлеб».
Подготовка к побегу была очень тщательной. На лагерном пайке его организовать было невозможно.
«Сашка стал помогать нам супом и иногда и хлебом. Николай тоже немного спекулировал».
Самым лишним в подготовке побега был мой дедушка: «Я не умел и не мог заниматься спекуляцией».
13 марта 1945 года побег состоялся. Они выбрасывали землю из траншеи и находились в самом ее конце.
«Нас охранял старик. Он часто подходил и говорил: „Niks gyt“ (нехорошо). Я спросил его, что плохо, он ответил, что все. Ругал Гитлера, осматриваясь кругом, и говорил, что Германии конец».
Они заговорили старика («Старик рассказал о себе и о своем отношении к фашистам»), напоили его, отвели в наблюдательный пункт и осмотрелись.
Шел дождь.
«Если мы стояли в траншее — он нас видел, а если нагибались, нас не было видно… Мы положили свои головные уборы на бруствер, бросили лопаты и (переходя то на широкий шаг, то на шаг гуськом) прошли около 500 метров».
Они оказались в конце траншеи и стали думать: куда податься?
«Влево шла другая траншея в метрах двухстах от нас, в пятистах метрах ходили какие-то люди — по-видимому, там тоже охраняли пленных. Метрах в ста шла проселочная дорога, по которой ехал немец на быках — его разговор с быками мы слышали».
Дедушка предложил встать в полный рост и неспешными шагами идти в соседнюю траншею. Его напарники по побегу отказывались.
«Я их убедил. Встали и пошли широкими ровными шагами».
Так они дошли до траншеи, которая вывела узников к кромке леса.
«В лесу было тихо. Мы свернули туда и пошли под гору, а когда вышли на небольшое открытое место, то внизу виднелся Саарбрюккен. Мы решили дождаться вечера под кустом акации. Когда стемнело, я встал между ветками акации и почувствовал себя на свободе».
Опять на свободе
Отдохнув и выспавшись, беглецы пошли на запад. На пятый день беглецы «встретили» союзников.
«Мы… смотрели через окно. Вот слышим шум. Идут танки, на них белая звезда. Все радостно выбежали на улицу. Три танка остановились. На автомашине подъехали негры с автоматами наперевес. Увидев нас, двое закричали приветливо: «Русс?» Мы закричали радостно: «Да, русские». И к нам полетели из машины несколько плиток шоколада, сигарет, конфет, пакетов. Танки и машина поехали дальше».
Теперь дедушка и его соратники по побегу почувствовали свободу. Они ее поняли так, как их научил плен. Два дня дедушка с товарищами еще пробыли здесь. Чтобы насытиться.
«Мы взяли мешки и пошли на бугор, где стояли разбитые повозки. Там набрали продуктов. У немцев брали молоко и вино. Оделись в новую одежду. Теперь было все: и пить, и курить, и есть».
Через два дня они решили двинуться на запад.
«Говорили, что американцы живут в городе Ландшпуль в семи километрах от нас, там полно русских. Мы решили идти туда».
В городе Ландштуль
Пересыльный лагерь, куда попал мой дедушка, находился за городом. Он был лагерем для русских солдат, побывавших в плену.
«Проволока ограждений была растоптана американскими танками. Бараки перегорожены досками. Свободных комнат не было. На улицах горели костры: готовили пищу. Бывшие пленники катались на веломашинах и мотоциклах. Мужской пол был в основном пьяный».
Все отобрали у немцев. Приходили к немцу, ставили его к стене и брали все, что хотели. Так делали все. Многих немцев расстреливали, если он был фашистом или плохо относился к русским.
Русские пленные поняли, что в условиях этого лагеря им разрешено заниматься всем, что дозволено. И они этим и занялись.
«Мы наполнили половину вагона таким количеством продуктов, которое не смогли бы съесть за два года. Откуда-то прикатили бочку спирта. Мои друзья пили постоянно, я же никогда не пил и отвечал за сохранность продуктов. По вечерам в вагоне набиралось человек тридцать, приходили девушки».
Грабеж в Ландштуле продолжался около двух недель. Только после того, как американцы вывесили приказ, что всем русским нужно собраться на сборном пункте в городе Номбург, он утих. Бывшие русские пленные стали покидать город. Покинул его и мой дедушка.
«Мы взяли две машины продуктов, на третью сели сами и отправились туда».
На сборном пункте в городе Номбург
Сборный пункт был размещен в бывшем немецком военном городке.
«На сборном пункте было около двадцати тысяч человек».
Первое время они жили, кому где нравится, ели свои продукты и расправлялись с бывшими обидчиками.
«Первые дни проходила расправа над бывшими услужниками фашистов. Полицейского Николая Баламута бросили из окна третьего этажа, Алекса повара убили ножами, Володю полицейского повесили, переводчицу утопили в уборной. Самосуд шел неделю, а потом успокоились».
Потом приехал полковник из советского представительства. Он навел порядок в лагере. Всех перетасовали и разместили по-новому.
«Семейных отдельно, девушек отдельно, военнопленных и военнообязанных отдельно. Были образованы три полка, батальоны, роты, взводы, отделения».
Дедушку назначили сначала командиром отделения, а потом помощником командира роты по политчасти: «Моя задача была убедить прекратить грабеж немцев, произвол, хулиганство».
В конце мая американцы сформировали из бывших пленных и узников эшелон и на Эльбе передали их представителям СССР. Многие из пленных попали в действующие части Советской Армии. Попал туда и мой дедушка.
«Нас отправили в 234-й сборный пункт в город Ратенов, где мы прошли проверку, а оттуда — в воинскую часть. Я попал в мехполк, где был комотделения, потом комвзвода и ротным агитатором».
Тут дедушку и застало окончание войны.
«3 марта 1946 года был демобилизован согласно указу президиума. 27 марта приехал в родной город. Погулял 20 дней и поступил на работу в Коми, контору Промбанка в качестве бухгалтера».
Наконец-то можно не бояться, не чувствовать себя загнанным зверем. Война закончилась! Это могло бы быть счастливым концом, как бывает в кино, но реальность в это время была иной. Жестокость людей в послевоенной жизни, людей, которые должны поддерживать его, ведь он столько пережил, что они могли бы гордиться им, оказалась страшнее для него, чем фашистские лагеря.
Строки, идущие дальше, были написаны, по-видимому, позже, когда мой дедушка не мог больше держать это в душе.
Если не друг мой — не читай
«Это все может быть оценено по-разному, но факты останутся фактами. Я недоволен своей судьбой. Хотел бы жить и работать с пользой для людей, но почему-то нельзя быть таким, каким я был до армии и в армии. Теперь встречаю подозрения, незаслуженное оскорбление. Мне часто задают вопрос, почему я остался в живых. Ответить очень трудно, ведь я никогда не думал остаться живым, но ненависть к мучителям, любовь к настоящему оставило мне жизнь. Я люблю настоящее, но нет, нет мне возможности сегодня бороться со всей энергией, на что вызывает партия наша, лишь потому, что люди думают, что я и все военнопленные не понимают высоких стремлений, малодушны, с животными инстинктами. Да, таких много, но мне это тяжело, непереносимо».
7 ноября 1946 года
«Сегодня великий праздник нашего народа. Вчера был на торжественном заседании. Со мной не разговаривают по-товарищески коллеги. Не знаю. Или же унижают, потому что я занимаю должность ниже, или за прошлую мою судьбу, может, я не умею вести себя, слишком молчалив, но мне кажется, что это из-за того, что я был в плену. Также я одинок бываю и на демонстрации. Я рад и готов делиться радостью с ними, но не знаю почему, не получается. Мне тяжело быть одиноким и еще тяжелее находиться с людьми, которых хорошо знаешь, но которые обращаются с тобой как с незнакомцем. Поэтому я не пошел на демонстрацию. Слушал по радио демонстрацию из Москвы, но потом стало скучно. Идти, хотя и есть куда, но я не могу рассказать никому свое горе. Есть мать, сестра, но им не понять. Я ничего не говорю им. Есть подруга. Она знает мою историю, но не знает переживаний. Она также становиться далекой. Но сегодня я не пойду к ней, люблю, но не пойду. Сегодня пошел один в театр, чтобы хоть немного рассеять мысли, но там встретил товарища Кулакова, бывшего друга. Вспомнили прошлое из техникума. Он орденоносец, ранен несколько раз и теперь лежит в больнице. Знает ли он о моем несчастном прошлом, не знаю, но он ничего подробно не спрашивал, и я ничего не сказал. Я не виноват, но мне тяжело говорить. Вдруг он не поймет меня, вдруг он примет прошлое как отрицательное. Я не хочу. Я расскажу ему другой раз, если удастся. Но разве я не прежний, разве я изменился. Почему Баталов, узнав мою историю, теперь избегает меня? Ведь он знает меня, он знает, что я не мог изменить в чем-нибудь Родине, он знает это, как и я сам, но почему же отчуждается? Мне тяжело, часто невыносимо. Почему же, как на позор, я уже полгода ношу удостоверение вместо паспорта? Я боюсь его показывать, мне стыдно и до смерти тяжело. Я не совершил ничего против Родины, советской власти, русского народа. Я готов покончить с собой. Мне это не тяжело, я десятки раз переносил больше, чем сама смерть. Но еще есть небольшая надежда, что МВД Коми АССР найдет истинные подтверждения, и мне будет спокойно. Я даже не знаю, могу ли быть принят в институт. Я хотел бы в педагогический, но разве мне могут доверить такую работу, когда у меня нет даже паспорта. В другой институт? Но я не имею права на выезд».
24 апреля 1947 года
«Сегодня теплый, еще первый такой в эту весну мягкий, чистый приятный ветерок. Ручьи текут особо бурно. Хороший день, но ничего не ожидал необыкновенного. Хотел выполнить свои обязанности в Промбанке, а вечером сходить в кино, но вспомнил, что 25-го кончается срок продления моего удостоверения, заменяющего паспорт за номером 1182, за тем же, какой заменял мне фамилию на шахте Реден. В обеденный перерыв пошел в паспортный стол. Думал, что мне скажут прийти завтра, а завтра поставят штамп „продлен до 25 июля“, но дали номер и попросили две фотокарточки. Пошел фотографироваться, чувствуя радость, похожую на радость купленному на свои деньги в 1936 году костюму или на радость от получения значка ГТО. Кажется, я получу паспорт. Ведь я знаю, что это ничего не изменит в отношении людей, но это придаст мне сил».
На этом заканчивается дневник. Долгие годы дедушку преследовали воспоминания о лагерях, часто он кричал во сне, но родным ничего не рассказывал. Он начинал пить, когда становилось особенно тяжело. Часто он говорил, что за ним следят, но ему никто не верил. Возможно, это была правда, возможно — последствие психологической травмы, нанесенной в плену. Но о своем плене он всегда вспоминал крайне скупо. Он всегда был одинок среди людей.
[1] Кайцелит (Кайтселийт) — национально-патриотическая военизированная организация в Эстонии, основана в 1918 году, существовала до 1940-го. Фактически — ополчение. (Примеч. ред.)