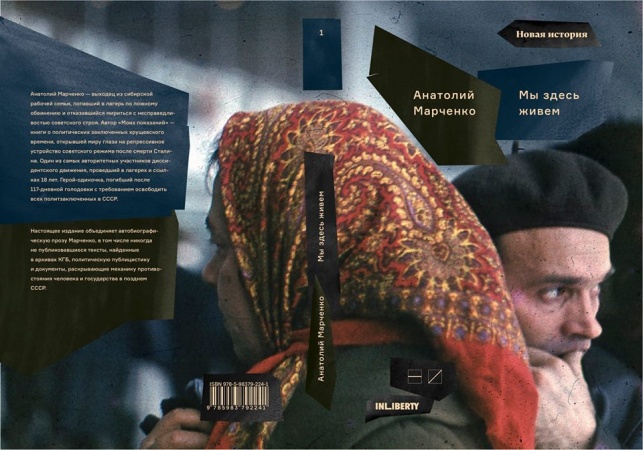Всем, кто здесь живёт
— Каким образом к вам попали ранее не издававшиеся тексты Марченко?
— По закону о реабилитации родственники имеют право получить на руки дело и вещественные доказательства, которые хранятся вместе с ним. И в тот момент, в 95-96-м годах, у нас была возможность получить из дела большое количество его черновиков, скопировать ряд документов, забрать некоторые книги, магнитофонные записи и так далее. Не знаю как это точно регулировалось законом. То есть, это вроде бы логично — человека несправедливо арестовали, украли у него какие-то личные вещи, и правильно их отдать.
С копированием было сложно, потому что ксерокса не было ни у них, ни у нас — так что мы скопировали далеко не всё. Затем я это долго читал, какое-то время держался за голову и думал, что же со всем этим делать, потом занялся разбором, потом это долго редактировалось Саней <Александром Даниэлем> и редактором Ларисой Ерёминой. И вот последний год всё это как-то двигается в сторону типографии.
— Впечатление от результата вполне цельное.
— Мне тоже так кажется. Но чтобы так получилось, на это некоторое время нужно было просто смотреть. Изначально всё это представляло из себя… Это всё-таки были материалы, которые изымались на обысках. К человеку приходят с обыском — и всё забирают. Он садится и всё переписывает. Снова приходят и забирают — он снова переписывает.
В результате у нас зачастую имеются три-четыре варианта одного и того же текста, разной степени готовности, разной степени подробности. Соответственно, задача изначально состояла в том, чтобы эти куски выстроить в какую-то длинную штуку, а потом из каждого отдельного массива составить один цельный текст.
— Помимо собственно текстов Марченко в книге много документов.
— Да, бумаги по последнему сроку — это его тюремное дело, их мы взяли из мемориальского архива. У этих бумаг тоже довольно тяжёлая судьба. Сергей Ковалёв, будучи председателем комитета Верховного Совета РСФСР по правам человека, когда-то затребовал их из Чистополя. Дело успели откопировать, а затем оно лежало у него в кабинете в Белом доме, который расстреляли в 93-м году. Кажется, обратно в Чистополь он дело отправить не успел, и там всё сгорело.
— Сергей Григорьянц, который сидел в чистопольской тюрьме в то же время, что и Марченко, рассказывает, что видел у него толстую стопку тетрадей совсем незадолго до смерти. О судьбе этих бумаг что-то известно?
— Действительно, было несколько тетрадей — вероятнее всего, выписок из книг. В точности непонятно, куда всё это делось. Что-то нам вернули, в основном какие-то журналы. Тетрадей я там не помню и ничего особо важного тоже.
***
— В книге много упоминаний о том, что Марченко, находясь в тюрьме и лагере, пишет жалобы и протесты в разные инстанции. Если почитать Буковского, то кажется, что завалить врага бумагами могло быть достаточно эффективной тактикой. Но в случае с Марченко кажется, что это работает не так успешно.
— Из-за того, что Марченко писал жалобы — мы, собственно, и знаем обо всём, что с ним происходило в тюрьме. Может быть, это была попытка оставить некоторый след, доступными в той ситуации методами. Насколько реально можно было жалобами чего-то добиться от администрации, насколько он сам в это верил — не знаю, не могу этого сказать.
— А в чём для него был смысл публичных «открытых» писем с воли? Писателю Чаковскому, режиссёру Бондарчуку, академику Капице?
— Здесь речь может идти о совершенно разных вещах. Есть письма конца 60-х, посвящённые условиям содержания заключённых. Это, безусловно, попытка рассказать о том, что происходит в лагере. Такая же, как «Мои показания», немножко в другой форме.
Есть письма более позднего периода, какому-нибудь Бондарчуку — с мотивацией «дать мерзавцу по роже». Тоже вполне понятная мотивация.
Отчасти, в этом же ряду стоит и письмо Капице. Хотя с ним, сложнее — Капица, разумеется, не Сергей Бондарчук. В том письме есть надежда, что Капица сможет реально что-то сделать. Как и в любом письме, взывающем к совести человека.
***
— Что в наследии Марченко кажется вам более значимым — его книги, или его политическая деятельность — то, как он боролся, то как и за что он умер?
— Для меня очевидно, что он сам осознавал себя писателем. Как минимум года с 67-го — 68-го, когда его в очередной раз посадили, и он писал в тюрьме. Это подробно описано в книге «Живи как все».
— Тем не менее кажется, что о нем больше говорят именно как о борце и мученике, чем как о писателе.
— Об этом мне судить сложно. Книжки, по крайней мере, очень хорошо раскупались, всегда. С последнего издания «Моих показаний» прошло 12 лет — книжек этих в магазине нет. Значит, их читают.
— Но может быть их скорее читают как свидетельство, как документ?
— Мне кажется, что «Живи как все» — просто хорошая литература. Да, написанная на автобиографическом материале. Но «Былое и думы» тоже написаны на биографическом материале. Кто знает, если бы человека не сажали всё время — может быть, он бы и прозу писал художественную?
Если взять «Живи как все», саму по себе, не оглядываясь на автора — оно вполне могло быть самостоятельным художественным произведением. В отличие от «Моих показаний». В «Живи как все» гораздо больше автора. Для меня «Живи как все», даже в усеченной версии, как она выходила раньше, книга гораздо более сильная. И гораздо более интересная. Но, понятно, что «Мои показания» читают больше.
Книги Марченко действительно документальные. Но я не могу даже в точности определить их жанр. Там внутри есть разная форма повествования — скажем «От Тарусы до Чуны» написана в форме дневниковой записи.
— У него были любимые писатели? Те, на кого он ориентировался в своей работе?
— С полной уверенностью говорить не могу, но я бы назвал Герцена, Салтыкова-Щедрина, Короленко. Первых двух он неоднократно упоминает в своих книгах.
***
— В целом у Марченко довольно характерный, сухой публицистический стиль, но время от времени он перебивается эпизодами, где больше каких-то отстраненных рассуждений, «литературы». Может быть, в этом проявляется влияние Ларисы Богораз как первого редактора и соавтора?
— Я думаю, что нет. Буквально судить мне трудно — я имел дело с черновиками Марченко, которые либо написаны его рукой, либо напечатаны на машинке. Мама никогда ничего мне об этих текстах не говорила. Для неё самой многие из них были новостью. Впрочем, это ещё ни о чём не говорит — тогда, в середине 90-х новостью для неё оказались и те тексты, что она сама писала.
Думаю, всё было наоборот: скорее Лариса Богораз при редактуре вычёркивала художественные образы из документальных книжек, но кое-где они остались.
— Как тот повторяющийся образ зэка, который отражается в экране выключенного телевизора.
|
„Вы покупаете себе новый шкаф и сидите вечером в уютной комнате перед телевизором. Вы заплатили за свой телевизор 360 рубликов и теперь наслаждаетесь законным уютом и благополучием. Мне и моим друзьям-зэкам этот телевизор стоил пота, здоровья, карцера, долгих часов на разводе под дождем и снегом. Вглядитесь в полированную поверхность: не отразятся ли в ней бритая наголо голова, желтое, истощенное лицо, черная лагерная куртка? Может, это ваш прежний знакомый“ |
— Да, это из «Моих показаний». Но я не знаю, сам ли Марченко придумал этот образ. Мне это больше напоминает типичную лагерную историю — вроде тех, когда зэки подкладывали записки в мебель, что-то подобное. Вполне лагерная идея — дать знать людям из внешнего мира, что они пользуются лагерной продукцией. Это ощущение человека из зоны: мы полируем все эти телевизоры и радиолы, а люди этим пользуются и ничего не знают.
— Еще один характерный пример лагерного фольклора — новелла о зэке-мстителе Павлове. Или это реальная историческая фигура?
— Вот один из примеров того, почему мы не стали делать академическое издание книги. Потому что его мы делали бы ещё лет 20. Мы публикуем неоткомментированные тексты, специально о Павлове мы ничего не выясняли.
– Но с точки зрения повествования он кажется важной фигурой. Читатель очень долго вынужден терпеть унижения и страдать вместе со своим героем, и вдруг, наконец, появляется Павлов, охотник за головами лагерных охранников, который удовлетворяет наше чувство мести — даже читать после этого становится легче.
– Конечно, это бродячий лагерный сюжет, история про мстителя. Когда тебя очень долго и безнаказанно бьют, ты начинаешь рассказывать себе и другим историю о человеке, который отомстил за всех. Мне тоже кажется, что я уже где-то что-то подобное читал. Это распространенный сюжет. По понятным причинам.
— Когда Твардовскому в «Новый мир» принесли для чтения «Один день Ивана Денисовича», то, чтоб он не отложил рукопись в сторону, сказали, что этот рассказ — «лагерь глазами мужика». А для того, что написал Марченко, важно, что он из простой семьи, а не какой-нибудь московский интеллигент?
— Мне кажется, что нет, совершенно не важно. Есть текст, и он живёт своей жизнью. То, что Марченко преподносят как «простого человека», «рабочего» — значения не имеет. Он сам в «Моих показаниях» признаётся в некоем изначальном предубеждении к людям «чистых профессий». Но в том-то и дело, что оно никак не подтверждается по ходу действия, ровно наоборот.
На что его происхождение оказало влияние — так это на отношение к нему со стороны ГБ. Вот гбшники из-за этого очень злились. Была какая-то личная злоба, очень личная. Именно из-за его происхождения. Они ожидали увидеть перед собой кого-то другого.
— Почему Марченко не уехал за границу, когда у него была такая возможность?
— Действительно, был момент, когда Марченко хотел эмигрировать — его не выпустили. Строго говоря, таких моментов в его жизни было два. Первый — в 60-м году, когда он хотел уехать, и у него почти получилось — его поймали при пересечении границы в самый последний момент. И в 75-м, когда он хотел ехать в Штаты, а ему говорили «поезжай в Израиль».
— И почему он не поехал?
— Потому что хотел в Штаты… Но, честно говоря, я думаю, он вообще не хотел уезжать. В какой-то момент он был на это согласен, но вот тогда его не выпустили. А уезжать вообще он не собирался.