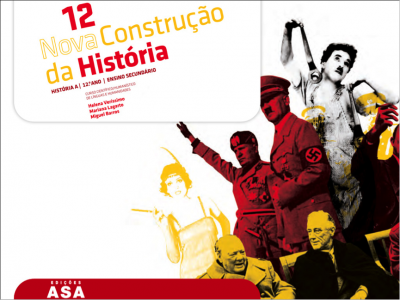Мы идём смотреть «Чапаева»!
Современный зритель неизбежно смотрит этот фильм в свете анекдотов про Чапаева, Петьку и Анку, параллельно обнаруживая первоначальные смыслы целого ряда крылатых выражений. Например, обаятельный Фурманов-комиссар произносит ироничную фразу: «Александр Македонский тоже был великий полководец. А зачем же табуретки ломать?» Эта неточная цитата из «Ревизора» Гоголя «пошла в народ» именно из «Чапаева». При этом в контексте фильма этот эпизод демонстрировал Чапаеву и советским зрителям культурное превосходство партии – т.е. обосновывал сложившуюся к 30-м годам социальную иерархию. Далее комиссар мягко переходит от вопросов культуры к проблеме «культурности» командира и осуждает его «затрапезный» вид («Моряк, красивый сам собою, ты бы подтянулся, что ли, малость…»). За этим также стоит послание к зрителям и реалии первых десятилетий советской власти. Командир должен быть подтянутым, потому что советский человек должен быть цивилизованным – обучение населения гигиене, умению себя вести и одеваться было частью советского модернизационного проекта и государственной идеологии.
Сегодняшнее восприятие советского кино легко игнорирует заложенные в него идеологические послания [1]. Современники получали от «Чапаева» удовольствие иной природы – в его основе лежала абсолютная вера в подлинность происходящих на экране событий. Любовь массового зрителя к фильму была, в первую очередь, любовью-проекцией (недаром главный герой был лишён любовной линии).
С Чапаевым себя идентифицировала аудитория, большей частью состоявшая из вчерашних крестьян или горожан в первом поколении. Их социальная успешность напрямую зависела от овладения письмом, культурой, а через них – языком власти, новой картиной мира[2]. В отличие от «зрелых» соцреалистических героев Чапаев оправдывал и искупал несовершенство – малограмотность и «некультурность» – своей аудитории. Он не отличал коммунистов от большевиков, Третьего Интернационала от Второго, доверчиво признавался комиссару: «Два года как грамоте знаю». И был при этом настоящим народным командиром – храбрым и властным, импульсивным и хитрым. В одном из эпизодов два чапаевских бойца, сидящие в дозоре, подтверждают: «Тоже из крестьян, Василий Иванович… А теперь – полководец и командир. Да ещё какой!…»
Реальный Василий Иванович Чапаев был, безусловно, способным, но второстепенным комдивом с образцовой советской биографией. Кроме того, как это ни ужасно звучит, ему «повезло» умереть в 1919 году, до начала выявления «троцкистов» в Красной армии и её последующих чисток.
Миф о Чапаеве стал ещё одной вехой в процессе мифологизации Гражданской войны. К концу 20-х годов сформировались образы благородных, дружелюбных и идейных «красных», противостоящих циничным, жестоким и декадентствущим «белым». Так с помощью советского искусства (в первую очередь, кино и плаката) была «скорректирована» народная память о военных годах красного террора и хаоса безвластия. В 30-е годы стал создаваться пантеон героев Гражданской войны. Этот процесс был напрямую связан с борьбой Сталина за власть. Имена многих красных полководцев, действительно определивших ход Гражданской войны, были забыты, запрещены, стали небезопасны (как, например, имя Троцкого) [3].
Однако популярностью «Чапаев» был обязан не только политической актуальности, но и своим художественным достоинствам: крепкому сценарию, ритмичному и выверенному монтажу, личному обаянию и киногении актёров. Культ Чапаева разворачивался вокруг Чапаева-Бабочкина – актёр наделил мифологического героя своим обликом, темпераментом и частично характером. Обаяние врага, белого полковника Бороздина – во многом заслуга И. Певцова, актёра дореволюционной театральной школы и педагога, мастера студии, где обучались в 20-е годы и Б. Бабочкин, и Г. Васильев.
«Чапаев» вышел в 1934 году, в период становления звукового кино. К тому времени авангардный проект советского кинематографа был окончательно свёрнут в пользу кино жанрового, сюжетного и актёрского. При этом в «Чапаеве» были использованы некоторые авангардистские приемы, что добавило ему суггестивности (в 20-е годы С. Васильев и Г. Васильев работали на одной студии с С. Эйзенштейном и были поклонниками монтажной эстетики). Например, в знаменитом эпизоде «психической атаки» на красноармейцев и зрителя надвигается полк белых офицеров – они не обращают внимания на выстрелы и упавших бойцов, продолжая приближаться ровным строем, под барабанную дробь. «Психическую атаку» можно трактовать как аттракцион в эйзенштейновском понимании – яркий, близкий к цирковому искусству, образ, сильно воздействующий на чувства зрителей. Этой сцены не было в романе Фурманова и в реальности против чапаевских отрядов подобная тактика никогда не применялась[4].
Для братьев Васильевых (псевдоним, которым режиссёров-однофамильцев одарил В. Шкловский) «Чапаев» стал самым ярким, «живым» и талантливым творением. Он был по заслугам отмечен и в СССР и за границей (Сталинские премии 1 степени Б. Бабочкину, В. Васильеву и Г. Васильеву, призы на МКФ в Москве (1935) и Венеции (1946), Гран-при на Международной выставке в Париже (1937)). Для истории успеха «Чапаева» немаловажно, что он стал одним из любимых фильмов главного кинозрителя страны – Сталина.
Все последующие картины братьев Васильевых полностью соответствовали зрелому соцреалистическому канону, с его однозначными характерами и застывшими оппозициями. Непредсказуемой народной любви они не снискали – в них не было того феноменального попадания в настроения и чувства аудитории, что в случае с «Чапаевым» породило небывалый всплеск зрительской активности.
Ольга Романова
[1] О месте советского кино в жизни постсоветского зрителя, о «культовом» потенциале «Чапаева» и других советских фильмов см.: Н. Самутина. Б. Степанов. А вас, Штирлиц, я снова попрошу остаться… К проблеме современной рецепции советского кино // http://www.nlobooks.ru/rus/nz-online/619/1393/1402/
[2] Повседневное встраивание выходцев из крестьян в новый мир сопровождалось травмами, разрывами с прежней, традиционной культурой и крестьянской родней. См. исследование Н. Козловой «Советские люди. Сцены из истории» (М., 2005) – о процессах «стихийного изобретения» советского общества, реконструированных на основе дневников и мемуаров «простых» советских граждан.
[3] О соотношении исторической реальности и мифов о Гражданской войне см.: «Василий Чапаев» // http://www.echo.msk.ru/programs/all/598015-echo/
[4] При этом подобная тактика ведения боя действительно существовала: в начальный период Гражданской войны она использовалась некоторыми белыми военачальниками, чтобы внести замешательство в ряды неокрепшей еще Красной армии. / См.: Е.В. Волков. Образ каппелевцев в фильме братьев Васильевых «Чапаев» // http://www.pobeda.ru/content/view/4892