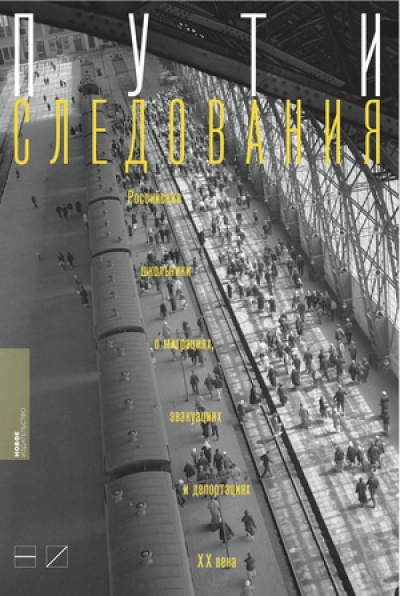«Зеркало памяти»: Обсуждение проекта о современных музеях, так или иначе отражающих историю ГУЛАГа
26 мая 2011 состоялся круглый стол, посвящённый обсуждению проекта «Зеркало памяти» – изучение того, как в современных музеях представлены экспозиции о ГУЛАГе и репрессиях в СССР. Ниже публикуется стенограмма встречи.
- Александра ЛОЗИНСКАЯ: <Те примеры>, которые мы поместили на выставке и часть тех, которые не вошли, помещенные вместе не создают одного большого повествования об истории репрессий. Нам не удается создать из этих элементов целое, у нас не получается большой нарратив.
Второй вывод и тезис, который мне хотелось бы выдвинуть на обсуждение, это результата, скорее, обсуждения и разговоров экспертами, работниками музеев. Всякий раз, когда возникает экспозиция, посвященная XX веку, истории репрессий, в которой есть некоторый критический запал, он не считывается при помещении советской символики в экспозицию. Для меня это важный вопрос в связи с тем, как нам рассказывать о каких-то советских событиях, если они наивно считываются как символы прекрасного советского детства.
И последнее. Мне бы хотелось поговорить о том, чего мы собственно хотим видеть в этих музейных экспозициях. Хотим ли мы пытаться говорить объективно, хотим ли мы выстраивать такое сухое повествование о том, что происходило, или для нас музеи, которые работают в системе ГУЛАГа, это, скорее, такие места поминовения, в которых нам не столько нужно рассказывать, сколько нужно придавать атмосферу и давать условно возможность постоять, помолчать и подумать.
Начнем с первого вопроса.
- Юлия ЛИДЕРМАН, РГГУ, социолог культуры: Мне хотелось бы для начала сказать о том, что эта выставка и концепция кажутся мне исключительно интересными и важными. И вообще, введение проблематики поэтики для просветительских организаций, для экспозиции, которая не художественные задачи себе ставит, исключительно мне интересно, будит воображение и кажется очень плодотворным.
Второе, что мне хотелось сказать в качестве обще рамки. Мне показалось, что в самой концепции проблематика поэтики сама по себе не схватывает проблематики репрессии, что это есть именно сильная сторона этой экспозиции. Мы начинаем наконец-то разводить вот эти разные культурные механизмы и разные языки, на которых с нами, с публикой, со зрителями разговаривают институции, или мы сами друг с другом разговариваем, и т.д. Что я имею в виду. Я имею в виду, что, безусловно, история репрессий, история того, что вы пытаетесь найти, это социальное общее, которое объединяет здесь народ, нацию, или того субъекта истории, как бы его ни называть, это довольно сложно. Когда же мы говорим «и поэтому репрессии» — при такой постановке они не схватываются и самими институциями, которые хотят рассказывать свои рассказы, и публикой. Мне кажется, что, обсуждая поэтику этих самых экспозиций, нужно еще добавить, видимо, социологию этих экспозиций. И тогда мы получим объемный взгляд на музейную работу, и тогда, может быть, у нас получится говорить о том, чем могут быть репрессии, в каких формах может быть подана память о них, и т.д. То есть, это вопросы не поэтические. Может быть, я здесь заблуждаюсь.
- Александра ЛОЗИНСКАЯ: А что ты имеешь в виду под «социологией»?
- Юлия ЛИДЕРМАН: Замечательно, что вы поставили вопрос о том, каков рассказ или нарратив об истории, то можно было бы поставить вопрос, каково представление о человеке в данных экспозициях. Этот вопрос не схватывается вопросом нарратива. Каково представление о человеке, что за значение приписывается человеческой судьбе, человеческой жизни, ценности человеческого мышления, чувств и т.д., и т.д. То есть, вся проблематика связана именно с тем, каков там воображаемый этот другой в воображаемом историческом времени и фантазии. Но опять же, это не вина, это замечательно, потому что это просто был один аспект, и просто работу над музейными экспозициями, по-моему, нужно продолжать и с другими вопросами, и в таком объемном зеркале будет ловиться очень интересно наша культурная ситуация. Спасибо.
- Галина ОРЛОВА, Ростов, Южный федеральный университет: Мне хотелось бы сказать о том, что поворот к рефлексии и некоторой такой обще-гуманитарной рефлексии по поводу актуальных социально-политических и исторических сюжетов, это очень добрый знак. И, мне кажется, способ изменить ту ситуацию, которая складывается сегодня вокруг музейного дела вообще, и в том сегменте, который связан с экспонированием советского прошлого в частности. Надо сказать, что последние десятилетия сходные задачи музейщики в России решали в меньшей степени. Может быть, в большей степени этой работой занимались люди на территории актуального искусства. В этом смысле возникал вопрос о том, до какой степени продуктивным оказывается союзе не то, чтобы «Меча и орала», но, в общем-то, современной гуманитарной теории и в данном случае, я не знаю, галерейной практики, активистского действия. Какова перспектива соотношения внутри-актуального искусства, политического действа на территории эстетического или постэстетического, с одной стороны, и современной теории, с другой стороны.
В этом смысле, один из вопросов, которые стоят лично передо мной, когда я смотрю на эту выставку, это вопрос о том, как, и чем может быть полезна подобного рода постановка вопроса. Но, прежде всего, для тех, кто делает музейное дело, работа подобного рода оказывается, если угодно, почти действием на кушетке психоаналитика. Это в некотором роде возможность осознать и опознать пространство собственных действий и те правила, по которым работает современная, я бы даже не сказала «музейное сознание», я бы сказала, что «музейное бессознательное». Таким образом, эта работа оказывается любопытной.
Чем она может быть интересна для широкого посетителя. Вопросы такого рода и способ подачи материала такого рода позволяют задать аналитические вопросу к тому, где находится память, как устроена память, что можем мы увидеть, что мы можем услышать; как мы видим, как мы слышим. И, наконец, эта штука безумно полезна для тех, кто занимает аналитическую исследовательскую позицию, потому что есть возможность задать ее на другом языке, в другом пространстве и другими средствами. Соответственно, изменить и круг тех, кто тебя слышит, и тех, с кем можно это обсуждать.
Какие моменты кажутся мне любопытными для возможного обсуждения, может быть, полемики вокруг предложенного формата экспозиции. Если вы обратили внимание, выставка выстроена вокруг того, что можно было бы назвать литературоцентричным проектом прошлого, или использованием тех клише и способов действия, которые оказались в распоряжении гуманитариев второй половины ХХ века после того, как произошел так называемый языковой или литературный, или лингвистический поворот.
Дальше любопытно. Языковой поворот произошел в 50-60-ые годы прошлого века, есть версия, что чуть раньше, чуть позже, были разные варианты. Но после него была целая серия разных воротов – практических, пространственных, культурных, визуальных. И в этом смысле интрига этой экспозиции, по мне, она связана с тем, что работать-то, как правило, приходится с тем, что материализовано и видимо, но переводить это нужно на язык текста и истории. В этом случае мое предложение – не переводить, или не переводить до конца. И попробовать работать с какими-то альтернативными режимами, иначе мы оказываемся в достаточно сложных дебрях и зарослях литературных жанров. То есть, тот материал, который был представлен, будь то реликвии или карты, или рисунки, или фотографии – в режиме свидетельства, в режиме рукоделия и повседневности, в режиме тюремного артефакта или чего-то еще, наверняка могут говорить и на языке, отличном от мемуаров, готики. И мне кажется, полезно услышать их голос. И то, что сделали устроители выставки, вполне позволяет это делать.
Что касается не проговоренного, я бы предложила думать о ресурсах визуализации молчания, возможно, аудиализации. Например, сегодня очень продуктивно работают с «белым» шумом, как ресурсом выявления невидимого или неслышимого. Можно ли делать часть несказанного видимым в экспозиции? Можно. Но дальше возникает вопрос, как это делать. Если это нужно будет и возможно, можно перейти к обсуждению более детальному, как возможно выходить на визуальную или материальную артикуляцию того, что не проговаривается. Спасибо.
- Ирина ЩЕРБАКОВА, Международный Мемориал, руководитель образовательных проектов: Я должна буду через какое-то время уйти, поэтому я хочу несколько слов сказать. Во-первых, я не музейщик, а историк, и этим очень многое сказано. Вот то, что мы сейчас выслушали, мы выслушали, и это правильно, что надо ставить так вопрос, но я бы так сказала, переведя на язык родных осин, что мы выслушали какие-то предложения по поводу пирожных, или по поводу, я не знаю, тирамису. А у нас ситуация с вами, конечно, такая, что просто с черным хлебом большие проблемы. Тут бы я сказала, что я очень рада, не буду повторять, я согласна с теми, кто говорил, что очень важно, что, наконец, начали об этом вообще говорить. Кстати говоря, все эти вопросы, которые тут, они касаются совсем не только памяти о репрессиях, но здесь это выглядит как-то особенно вопиюще. И, в общем, я бы сказала, что просто надо делить задачи. Ведь наше пространство… О чем мы вообще говорим? Мы говорим, насколько я понимаю, или как историк о чем бы я хотела сказать, что есть нечто, что переживалось в течение 70-ти лет, чему даже до сих пор у нас нет единообразного названия, потому что историки, на самом деле, не пришли ни к какому термину; никак не могут договориться и философы – обозначить то, что с нами в течение этих 70-ти лет было. Катастрофически уходят свидетели, исчезает нарратив. Он вообще все меньше и меньше востребуется, если говорить о тексте, о литературе, о кино – о чем угодно, где какие-то куски вот этого осмысления рефлексии есть.
Вот мы видим и знаем, что у нас есть, какие кусочки есть пусть на очень небольшом пространстве, пусть еще скупо, но как-то попытались некоторые основные какие-то такие типы… Можно возражать по поводу того, как это было представлено, но, во всяком случае, некоторые основные типы были названы. Но совершенно ясно, что они нас абсолютно не удовлетворяют и не могут удовлетворить. И что нас этим со всем делать? Какие задачи мы можем тут для себя и должны для себя ставить?
Во-первых, нам вообще нужно создавать вот эту культурную память о репрессиях и культурное пространство? Я говорю о репрессиях, я говорю в связи с тем, что уже было показано, на самом деле вообще культурное пространство некоторой памяти о том, что с нами было в течение этих 70-ти лет, и как его тогда создавать. И чрезвычайно существенным элементом того, что с нами было, был действительно такой мир в очень острой форме, мир абсолютной несвободы, какие-то периоды особенно остро. Как нам с этим быть? Наша память фрагментарна, она длилась много лет, она менялась. Менялись условия, менялись персонажи. Вот что и как с этим быть?
Я думаю, что тут возможны разные подходы. Например, возможен простой, я бы сказала, что он даже нужен, простите меня, что я говорю такие банальные вещи, — широко образовательный подход. Будет ли это большой научно-исследовательский центр, связанный с архивным хранением, вот то, что своими небольшими возможностями делает «Мемориал», создавая вот такой, в какой-то мере позитивистский подход, собирая то, что с нами было. Если будут доступны и открыты архивы, за что мы боремся, закрытые часто архивы, ставшие труднодоступными государственные архивы, это тоже будет, пусть тоже в этом смысле, конечно, позитивистское, но пространство нашего знания, и если хотим, очень важного элемента вот этой культурной памяти о том, что с нами было. Это может быть одним типом. Потому что, я повторяю, вот это пространство и задачи, они чрезвычайно разные, которые нам приходится в этом смысле решать. И мы с вами знаем, что учебники, которые и без того плохие, уж никак эту задачу не решают.
С другой стороны, все-таки их недостаточно. Но мы же все время говорим о том, что их надо открывать, их должно быть больше, что они должны быть оформлены совсем не так, как они оформлены. Это просто реальные места памяти и места памяти о жертвах, и тогда там уместны места памяти о жертвах, и тогда там все-таки надо сделать все то, чтобы это место выглядело, как память о жертвах. И есть в мире этому примеры, есть по-разному решаемые на местах бывших концлагерей – это все люди уже проходили и над этим думали, как такого рода места памяти создавать. И тут можно и поучиться, что на них должно быть, кроме церквей и часовен, что на самом деле есть у нас, или сделанных, как в Левашове, самодельных каких-то, что само представляет место памяти. Это один вариант.
Есть, наконец, места памяти. С другой стороны, у нас нет топографии террора, нигде и никак. Она никак не обозначена. Как с этим быть? Как ее обозначать? Как обозначать ее в том пространстве, в котором мы живем? Этого нет вообще, и никак не существует. Какие тут могут быть формы? Какие могут быть формы памяти о людях? Тут говорилось о текстах, и там назывался музей Ахматовой, и вообще все, но это чрезвычайно важный подход, такой рассказ на примере какой-то одной судьбы или, допустим, нескольких судеб. Это другая может быть модель. И, наконец, возможны просто всякого рода, если мы говорим о попытках очень широко понятой рефлексии обществом, нечто иное, кроме камня Лубянского, который в Москве единственный объект, который претендует на то, чтобы все-таки каким-то образом обозначить вот эту общую такую рефлексию, не ставя никаких утилитарных задач, просто каким может являться памятник. История знает, когда это удачно соединяется, удачно или неудачно, но вот в Берлине памятник в центре убитым евреям Европы, где памятник сочетается с музеем. Это тоже возможно — на условном месте созданный памятник с конкретным музеем.
Я бы так сказала, что мы совершенно в начале пути, как это ни грустно. И чрезвычайно много стоит задач перед обществом разного рода. Память наша фрагментарна, с локальной памятью какого-то маленького места или маленького поселочка можно работать одним образом; с памятью такого огромного мегаполиса, каким является Москва или Санкт-Петербург – неким другим образом. Но я считаю, что мы сегодня просто, может быть, начали какие-то предварительные разговоры, и это очень хорошо. Я согласна со всеми, кто говорил до меня. И последнее, что я хочу сказать, что, конечно, нужно думать и о том, как передавать молчание, и как передавать травму, и возможна ли вообще передача какой-то травмы. И лучше всего эти вещи решает искусство. И совершенно не возбраняются в этом смысле никакие арт-ответы на эту тему, но это свой ответ. Это совершенно не означает, что не может быть и не нужен никакой позитивистский, никакой просто просветительский подход, только решенный не так, как решается часто у нас в краеведческих музеях по бедности, а решенный совершенно современными методами с использованием современных средств, достаточно лаконично, отчужденно и т.д., и т.д. Я считаю, что это начало нашего разговора. Спасибо.
- Александра ЛОЗИНСКАЯ: Ирина Лазаревна, так что нам нужно – место памяти или рассказ?
- Ирина ЩЕРБАКОВА: Я, по-моему, сказала, что, конечно, нам нужны места памяти, и нужны рассказы в какой-то форме. Только весь вопрос в том, в каком месте? какой рассказ? о чем? Слово «рассказ» мне не очень нравится. Я бы сказала «формы памяти», которые включают в себя этот рассказ в том числе.
- Алексей ЛЕБЕДЕВ, заведующий лабораторией музейного проектирования Российского института культурологи: Коллеги, я хотел задать вопрос, среди нас есть хотя бы один действующий музейщик? Трое, четверо. Отлично, уже хорошо. Пятеро, прекрасно. Мне это было очень любопытно по той простой причине, что есть наше желание изменить общество, изменить нашу жизнь, переделать сознание, но это такие широкие гуманитарные подходы. А есть конкретный инструмент работы, который называется музейная экспозиция. И, как я понимаю, то исследование, которое было проведено, оно все-таки посвящено исследованию музейных экспозиций. Причем, оно не является проектом, оно является исследованием. И в этом смысле, патологоанатом – лучший диагност, что есть, то есть. Мы смотрим на то, что имеет место быть. Хотя бы давайте, с этим разберемся.
Я буду, вы уж меня простите, поскольку объект нашего обсуждения, он все время плавает. Мы то говорим о том, что во всех музеях, то, что у нас в России, то о конкретной выставке, которой вот тут. Я хотел бы все-таки сказать об этом исследовательском проекте, об этой выставке. С моей точки зрения, это чрезвычайно интересная, чрезвычайно полезная затея, которая на настоящий момент с треском провалилась. И могу объяснить, почему с моей точки зрения это так.
Во-первых, вот этот ход… Я сейчас буду пытаться совсем простые примитивные слова употреблять. Музейная экспозиция – это некоторая картинка, это некоторый зрительный образ. Когда мы переводим этот зрительный образ в текст, происходят потери довольно существенные смысловые. Дальше. Когда мы, поработав с этим текстом, перегоняем его обратно в зрительный образ, происходят еще раз смысловые потери. Но при этом, мы это все хорошо знаем, например, по изобразительному искусству, что есть некоторые формы текстовые, которые хорошо переходят в зрительный образ, а есть, которые, ну, просто никак. Я думаю, вы со мной согласитесь, что в изобразительном искусстве, например, очень много аллегорий, очень много символов и очень мало метафор. Метафора — разве что плакат Лисицкого «Клином красным бей белых» вспоминается, как метафора. А так вообще метафор-то просто по пальцам в изобразительном искусстве. Почему? Вот не идет эта чисто вербальная форма.
Здесь же в экспозиции было сделано следующее. Хорошо, каким-то образом, не будем ковыряться каким, отобрали 15 музеев. Из них отобрали, их объединили в 5 групп. Причем, в некоторых случаях группа – это один музей. Тоже несущественно. Дальше. То, что мы выяснили в этих музеях, мы видим на этих маленьких проекциях. Причем, видим в виде текста, слов. Ну, я не считаю зрительный образ каким-то уж особенно информативным. А кроме этого, есть некоторая экспозиция, посвященная этой истории, которая есть метафора. И вот тут башню сносит совсем. Я вам, как человек, который делает музеи, я вам могу сказать так: эта штука абсолютно не инструментальна, с ней нельзя работать, ее нельзя перевести в экспозицию. И конечно, я, когда смотрел этот проект, когда еще он был проектом, я считал, что все будет как-то попроще. Ну, отберем некоторые экспозиции ныне существующие; как-то их классифицируем и именно их, я не знаю, фрагментами, фотографиями, чем-то еще, предъявим. Получится? Может быть, я не знаю, великая выставка, но она будет исследована.
Потому что я на настоящий момент не вижу, как этой историей можно пользоваться. И вот эта проблема, мне кажется, является центральной. То есть, дальше я мог бы понарассказать некоторых слов, например, о том, что тут можно переделать перед тем, как показывать эту красоту в Перми-36. Ну, просто какие-то такие ходы подсказал бы. Но мне кажется, сам вот этот ход, когда мы, ну, знаете, нет ничего более смешного, чем взять русский какой-нибудь классический текст литературный, перевести его, например, на английский язык автопереводчиком, а потом с английского опять на русский автопереводчиком. Вот эта экспозиция – это ровно вот это. Хотя сам подход и идея рассказать языком экспозиции об экспозиции – это очень любопытный ход. Наверное, можно такую форму фольклористики придумать, когда мы собираем песенное творчество, а потом о нем поем песню. Чего-то в этом есть, это любопытно. Но вот через автопереводчик – прям, ну, никак не катит. Вот это мое такое ощущение. Хотя, я повторяю, что затея от этого ни в коей мере не бросает тень на идею. Мне кажется, очень не дотянута реализация. Мой взгляд на экспозицию такой. Пока все.
- Ирина ЩЕРБАКОВА: Я задам вопрос сразу по ходу дела. Это, конечно, реализовывать очень трудно, но я хотела спросить. Я думала тоже ровно о том, о чем вы говорите. Вот взять просто какие-то кусочки, не знаю, Поклонной горы, ее показать; взять какие-то фотографии из Бутова и просто их продемонстрировать, что там происходит. Но я понимаю, почему они не пошли по этому пути. Может, это не получилось, но понятно, почему не пошли. Я не очень уверена, что такие цитаты тоже что-нибудь бы дали. Я понимаю, что все зависит от художественного решения. Я повторяю, что я не музейщик и сужу в этом смысле как человек практический, который с этой памятью все время работает, которому необходима эта визуализация, чтобы свою работу осуществлять. И ее нет, ее на самом деле практически нет. Вот в чем наша беда. Я не знаю, вот эти кусочки и эти цитаты, они что-нибудь бы в этом смысле дали?
- Алексей ЛЕБЕДЕВ: Трудно всегда говорить абстрактно, но, вообще-то говоря, мы каждый год мы имеем интермузей, который процентов на 30 состоит из таких цитат. Но мне кажется, что кое-что и там можно извлечь, при всем том, что это «на коленке» сделано и такие времянки абсолютные. Я бы сказал так: возможно, не возникло бы целостного образа. Но то, что его не возникло, это и есть отражение реального состояния, его и нет. Было бы то, что Лотман называл «значимое отсутствие». А как отдельные куски, это могло бы быть вполне адекватно.
- Юлия ЛИДЕРМАН: Я не очень понимаю, почему нельзя пользоваться тем, что сделано. Этим исследованием, по-моему, вполне можно. В качестве двух предложений, как этим действительно можно было бы пользоваться по-другому. Действительно, пространство организованное там есть, метафоры визуальные. Ладно, не будем в это вдаваться. Чего там нет, и, может быть, это немножечко смущает…
- Алексей ЛЕБЕДЕВ: Прошу прощения, там нет организованного пространства.
- Юлия ЛИДЕРМАН: Хорошо. По-моему, на мой вкус, этим проектом можно пользоваться. Я не знаю, для каких целей она делалась, но цель увидеть метод, которым можно понимать, как устроена современная культура, по-моему, на этой экспозиции предоставлена. Другое дело, чего там нет в достаточной степени, это текста исследования, самого текста исследования. То есть, если эту экспозицию перевести в буклеты и снабдить их одной небольшой научной статьей, в которой рассказывалось бы подробно для тех, кто не знает, что такое нарратив, какие здесь типы вы выявляете, и что значит власть нарратива, и что значит, что то, что вы аккуратно называете клише и то, что вы называете «люди в этих обстоятельствах как-то себя ведут», может быть, тогда это сняло бы вопрос, и этим можно было бы пользоваться вполне. И если бы там еще было бы написано, что это не окончательный список этих рассказов, что этот список рассказов можно продолжить, но само выявление типов рассказов – это есть метод и им можно заниматься, и вы показываете как. По-моему, это абсолютно прозрачная схема. Другое дело, что вы показываете это в виде экспозиции, и с этим можно спорить. Ну, хорошо, вы показали это в виде экспозиции. Музейные эксперты говорят, что это провалилось, и это хорошо, но это как методологическая работа не провалилась. Как работа в сфере культурологи, эта работа не провалилась, ее можно доделать, у нее есть результаты. Эти результаты блестящие. То, что вы показываете типы повествования, то, что там есть житие, то, что там есть…
Ну, хорошо, можно начать спорить о том, как они называются. Вы говорите, что это воспоминания — можно найти другие названия. Но есть у этих нарративов законы, в этом смысл. Смысл не в том, что наши музеи делают что-то плохо или хорошо, а в том, что есть определенный набор повторяющихся типов рассказов, в которые люди входят, как в готовые формы и в них начинают работать. Вот о чем идет речь. Это работа по критике культурной ситуации. Поэтому я немножечко была смущена, Ирина Владимировна, тем, что вы начали проектную работу. Я не знала, что мы здесь собрались для проектной работы, я думала, мы здесь собрались для работы методологической, рефлексивной или какой угодно, обсудить то, что сделано. Вот это немножко смущает. Но то, что это провал – я бы так не говорила. Я бы сказала, что это очень новаторская и, если она в такой легкой форме, не на века сделана, не на века отлита, то это ее совершенно не портит. Это может быть текстом, и можно будет этим пользоваться.
- Галина ОРЛОВА: Я постараюсь быть совсем краткой по поводу перевода, провалов и производства знания. Я знаю, как минимум, одного француза, который оказал сильное влияние на современную социологию в науке, его зовут Бруно Лотур, он утверждает, что перевод, в том числе и межсиматический, то есть, между разными симатическими системами, является одной из базовых процедур в ситуации производства знания. Тот способ перевода, который был предпринят в данном случае, называется визуализация. Это даже уже не оригинально говорить о визуализации, как форме исследования и форме проектирования, то есть, последние 30 лет, в общем-то, об этом говорят, но, может быть, не здесь, может быть, не в связи с этим политическим, историческим сюжетом. Есть ли у этого проекта слабые места? Есть, их много. Мне тоже не все нравится в технике исполнения. Но означает ли это, что логика действий непродуктивна и неэвристична – не означает. Мне кажется, что у нас есть отличная возможность, коль скоро здесь собрались и музейщики, и люди из разных дисциплинарных полей, как раз поговорить о том, что на технологическом уровне при реализации этого проекта удалось, что не удалось, и что можно было бы сделать иначе. И тогда мы можем извлечь максимум прагматической выгоды из нашей коммуникации. Спасибо.
- Борис БЕЛЕНКИН, директор библиотеки Международного Мемориала: У меня совсем коротенькие, маленькие замечания. Я не буду говорить, получилась ли организация пространства, может, она и не получилась, и, может быть, какие-то есть вкусовые или смысловые замечания по поводу того, как конкретно получилась организовать это пространство. Я не согласен, есть вещи, достаточно концептуальные, которые очень важны, когда ты проговариваешь в связи с концептуальной вещью как эта экспозиция. Ирина Лазаревна, я не согласен с вами. Вы сказали, может быть, это была просто фигура речи, вы сказали «мы находимся в начале пути». Дело все в том, что мне-то как раз показалось, что этот путь еще не начался, и в этом-то и есть вся проблема. Я понимаю, что вы аккуратно выразились, это было такое изящное высказывание, — а в этом-то и есть, собственно говоря, некая вещь. Те, кто конструировал в хорошем смысле эту выставку, они были в таком положении, как бы двусмысленном, и даже не понятно, в каком, поскольку они имели дело с тем, чего, в каком-то смысле, не существует. И это самое важное.
Безусловно, я повторяю, я согласен там про организацию пространства и т.д. И мне очень жаль, но это, наверное, технический момент, что там нет наших коллег из Санкт-Петербурга, которые, условно говоря, 2 сотни музеев от Ягодного до, я не знаю, проездили для фиксации того, что существует в этой области. И есть их виртуальный как бы музей ГУЛАГа. И у нас у всех есть какие-то опыты. Они, конечно, говорят о том, что сегодня не существует реально выстроенного музейного пространства или концепции этого пространства истории ХХ века. Да, есть война, есть то, есть это, есть какое-то местное краеведение, а этого не существует. И здесь то, что сделано, предложено сегодня, это, мне кажется, вполне напоминает в первую очередь как бы выставку по концептуальной статье. Скорее, это выставка по некоей такой теоретической разработке. Но это важно, в первую очередь, редкий случай удачности, с моей точки зрения, чтобы начинать разговор, вести разговор о проблеме, если говорить о чисто музейной проблеме, то это такая для России одна из космических проблем. Конечно, я отметил из записанного вами, остаются ли современные музеи зависимыми от советской эстетики. Ну, естественно, там на 98 или 99 процентов они зависят, даже те, что только открываются. Я сейчас был в Каргопольском районе, посмотрел музей, они только что открылись. Это просто еще хуже, чем советский, они как бы плохо повторены. И это проблема.
И, конечно, то, что вы делаете и то, что вы сделали как инициирование некоего разговора, это и есть самое главное, а все остальное – это уже частности, извиняюсь.
- Алексей ЛЕБЕДЕВ: Я не музейщик, я музейный проектировщик. Разница такая же, как между моряком и кораблестроителем.
- Дмитрий КОКОРИН, директор по развитию Международного Мемориала: Я бы хотел, как участник этого проекта ответить на некоторые критические вопросы. Мы, конечно же, осознавали вопрос двойного перевода, это был как бы базовый вопрос, который надо было решить. Когда у нас был первоначальный замысел проекта, то перевода результатов исследования в экспозицию не планировалось. Наша первая интенция состояла в том, чтобы осознать как раз, где мы находимся, и начать критику нашей музейной культуры. У нас было другое мероприятия, где Виктор Воронков заслушивал выступление студентов и их критиковал. Говорил, что разные бывают методы критики, в частности бывает такой метод критики, что говорится два комплимента, а потом нащупываются болевые точки, и по ним очень больно мы бьем.
В данном случае, мы как бы хотели это сделать, но, с другой стороны, мы не хотели быть очень больно. И поэтому мы, может быть, увлеклись такими метафорами и иносказанием, на самом деле, о том, что у нас происходит в наших музеях. И сформулировали эти 5 типов и пытались это как-то сформулировать. Но это не отменяет нашего честного этнографического исследования, и еще более фундаментального исследования коллег Ирины Флиге и Александра Даниеля, на консультации которых мы в частности тоже опирались, безусловно. И когда мы отправляемся с открытыми глазами в наши музеи, то, на самом деле, не так важно, каким поворотом мы будем руководствоваться. Если мы возьмем Бруно Лотура, Джона Лоуи и посмотрим, как там пространство организовано, то мы тоже получим какую-то типологию того, как организован этот музей. И, например, если мы пойдем в Поклонную гору, то мы увидим там точно такое же как бы насилие над сознанием человека, потому что его там просто программируют определенным образом. И действительно, на мой взгляд, совершенно корректное сравнение с эпосом, потому что там используются эпические форы, абсолютно используется имперский стиль, если мы говорим об истории изобразительного искусства. Это такой как бы смешной позднесоветский имперский стиль, уникальный памятник, и с какой бы линейкой мы туда ни пришли, это все равно увидим.
Дальше вопрос в том, должны ли мы были это инструментализировать с тем, чтобы потом это как готовый продукт, как какой-то редимейт люди из музейного сообщества могли бы взять и интегрировать обратно в свою практику. На мой взгляд, мы эту задачу не ставили, и тут достаточно странно предъявлять нам эти претензии. Эти задачи должны ставиться совершенно на другом уровне. «Мемориал» инициировал, как вы знаете, в сотрудничестве с Советом по правам человека, мы пытаемся инициировать программу, которая поставила бы на общегосударственном уровне вопрос о культуре памяти и том, как сохраняется память о репрессиях. И там будут вопросы и к музейщикам. И через эти механизмы возможно дальнейшая выработка каких-то инструментальных рекомендаций и их реализация, если эти решения будут постепенно приниматься. Но для того, чтобы эти рекомендации были выработаны, мы должны критиковать очень больные точки.
И тут дальше вопрос, насколько мы попали. На мой взгляд, это можно обсуждать, и может быть, где-то мы не попали. Но, на мой взгляд, проблемы наших краеведческих музеев, которые построены по шаблону, как говорил Борис Исаевич, колоссальная проблема. Потому что, как ее решать? Просто нужно на это взглянуть, взглянуть в какое-то зеркал и потом начинать думать, как это решать. Мы хотели сделать это зеркало, и, мне кажется, в какой-то степени, это получилось.
- Алексей ЛЕБЕДЕВ: Вы знаете, я прошу прощения, если идти в вашей логике, то тогда мы очень легко и быстро теряем тему. Потому что проблема наших краеведческих музеев – это совсем не только проблема показа истории репрессий. В широком смысле, вообще, проблема наших музеев в стране состоит в том, что у нас очень мало профессионально сделанных музеев, даже профессионально сделанных музеев среднего уровня. Беда состоит в том, что у нас есть, как в любой другой, кстати сказать, европейской стране, у нас есть несколько музеев, сделанных абсолютно профессионально, музеев экстра-класса. А дальше за ними идет сельский клуб сразу. Пожалуйста, экспозиция в колокольне Ивана Великого, музей в Анадыре «Человек и Чукотка». Не буду сейчас длинный перечень, но наберу, наберу вам, пяток, десяток наберу на страну. Но беда-то состоит в том, что дальше начинается сельский клуб 50-х годов вообще без середины. Это вообще такая типовая для нас ситуация, когда космическую ракету не хуже американской мы сделать можем, а легковой автомобиль приличный – ну, никак не получается. Понимаете, здесь мы выходим далеко-далеко за пределы гулаговской темы, и надо вообще посмотреть, кто и как делал наши экспозиции музейные вообще. Открывается экспозиция ГИМА, не так давно у них второй этаж открыт и перед этим первый, на который смотрят все краеведческие музеи нашей страны и берут ее за образец. А эта экспозиция просто ниже плинтуса, это обсуждать нельзя.
То есть, там наделаны какие-то элементарные ошибки, которые просто экспозиционер делать не может. Один пример приведу. Там в одинаковых витринах и с одинаковым этикетажем стоят уникальные подлинные вещи и гальваника, гальванокопии. В результате этого, один раз обнаружил гальванокопию, и тебе начинает казаться, что все гальваника, все пластмасса. Происходит это потому, что они решили, что экспозиция должна быть иллюстрацией к учебнику истории. А даже ГИМ со своей 4-миллионной коллекцией не набирает иллюстрацию к учебнику истории. Если ваша цель – это не воздействие на музейные экспозиции, а какие-то более широкие интенции, значит, я ее неправильно понял. Потому что мне казалось, что вы хотите как-то своим действием оказать какое-то влияние на музейное сообщество. Если нет – то нет. Тогда я сразу умолкаю.
- Дмитрий КОКОРИН: Я буквально два слова хочу сказать. Конечно, мы хотели воздействовать на музейное сообщество, но не так, чтобы говорить, как расставлять этикетки и выдавать какие-то инструментальные рекомендации. Мы хотели, чтобы сообщество задумалось, что происходит, где мы находимся, какие нужны исследования, нужны ли исследования из отстраненной позиции. На мой взгляд, они нужны. Нужна критика. И тогда, может быть, будет и воздействие дальше инструментальное. Потому что, когда нет критики, не понятно, какие у нас стимулы, чтобы какие-то инструменты использовать.
- Алексей ЛЕБЕДЕВ: Так, давайте критику. Не надо — зюйд-вест, рукой покажи. Давайте критику. А у вас-то метафоры вместо критики.
- Александра ЛОЗИНСКАЯ: Я очень коротко. Мы по мере размышления, обсуждения того, как выстраивать экспозицию, мы думали о том, можем ли мы что-то предложить, можем ли вообще сказать, что есть такой тип, Бог с ним, метафорический или не метафорический, а какой-то прямой конкретный маленький отрывок экспозиции, который готовы были бы предложить в качестве идеально-типического. Мы поняли, что мы совершенно не готовы такое предлагать. Для меня это было одним из выводов исследования. По мере просмотра, я это говорила на открытии, я повторю, мы начинали это исследование с диким критическим и ироническим запалом. Просмотр этих экспозиций, вообще любых, он просто дает какие-то свои личные эмоциональные эффекты сложные. Но, ровно начиная работать над экспозицией, мы поняли, что мы не знаем, что и как говорить. Все, что мы можем сказать своей выставкой, это поставить проблему, обнаружить те места, в которых чего-то нет. Но мы не хотим оскорблять наших коллег, которые очень много чего сделали. Конечно, можно говорить о том, что мы в начале пути или мы не начинали путь, но вот Галина упомянула слово «бессознательное», может быть, мы имеем дело с чем-то похожим на музейное бессознательное, но это стихийно сложившаяся рефлексия о репрессиях в музеях, которые мы наблюдаем. И она для меня, например, крайне ценна.
Вопрос в том, что я не могу предложить ничего.
- Алексей ЛЕБЕДЕВ: Надо предлагать. Но вот выявили вы свои типы, но скажите, почему каждый из них плох внятно? Критика совершенно необходима. У нас кинокритика есть, критика театра есть, архитектурная критика есть, литературная критика есть, а музейной нет. Поэтому, когда включаешь радио и берешь газету, про музей там может быть написано только одно: какое счастье, новый музей открыл свои двери. Никакой критики музейной у нас нет и в помине. Ну, так начинайте, прекрасно. Так и вперед, все только этого и ждут.
- Борис БЕЛЕНКИН: Маленькая реплика. Мне, знаете, чего не хватает в вашей, и что бы я сделал в этой экспозиции, может, это невозможно, это просто сейчас пришло в голову. В каждой из 5 или 6 точек, если бы человек мог подойти, включить монитор и прослушать экскурсию, как ведется в музеях ГУЛАГа, в музее «Пермь-36», в музеях… Ну, понимаете, да? Мне кажется, восполнилось бы, чего не хватает. Может быть, это не спасло бы или, наоборот, может, ухудшило бы, но мне этого вот не хватает.
- Наталья САМОВЕР, «Архнадзор»: Во-первых, я хотела бы сказать, что чрезвычайно интересен сам по себе исследовательский замысел проекта. И вот именно, поскольку он очень интересен, то я пребываю в некоторой растерянности от реакции самих исследователей на дело рук своих. Почему вас смутило то, что вы выявили множественные типа и не выявили идеального типа. Не есть ли это нормальный результат, собственно говоря? Меня всегда очень настораживает попытка определить окончательную истину и отлить ее в бессмертную форму. Вряд ли это возможно. И слушая эту дискуссию я пыталась себе представить, возможно ли вообще идеальное представление истории ХХ века, например. Нет, невозможно. Невозможно в принципе, поскольку таково методологическое состояние не музея и науки, а вообще и философии, и рефлексии ХХ века и XXI века о себе самом.
Вполне нормально сформировались целостные экспозиции, посвященные XIX веку, потому что это происходило в интеллектуальной парадигме XIX века. Но это абсолютно невозможно для XX и XXI веков. Поэтому замечательно, мы наблюдали цветущее разнообразие. Критика каждого из этих типов, наверное, действительно нужна в целях наилучшего и наиболее глубокого их познания. Но идеальным результатом было бы не вычленение единственно правильной, а складывания всех различных форм в единую картину, вот таким вот образом.
Это тоже вопрос, на самом деле, имеют ли наивные формы на существование. Конечно, имеют, и они занимают свое место в общей картине мира, в том числе, и наивные тоже. Я пыталась еще себе представить. Кажется, такое ощущение, что сейчас мы имеем уже полный набор возможных типов рефлексий на эту тему, или можем ли мы сконструировать какую-то форму, которой почему-то еще нет, но она должна быть. Я попыталась ее вообразить и не смогла. Может быть, я глупая просто. Понятно, что такая форма, как кондовый советский музей, который делает вид, что вообще репрессий не было, это, скорее всего, уходящая форма. Ну, в исторической перспективе она будет уходить, понятно, она не будет с нами вечно. Вот могут ли появляться совсем новые типы музейной экспозиции, которые мы не видели там, а мыслимы ли они? Можем мы сейчас домыслить и сказать, а вот что-то, что должно родиться, но пока не родилось?
- ……….: Не слышно.
- Александра ЛОЗИНСКАЯ: Во-первых, есть неточность в тех представлениях об исследованиях, которые мы дали. Все-таки музеев 15, и типов больше, чем 5. Там есть набор мелких, есть опять же наивное, почти графоманское письмо; есть дневник, а не мемуары; есть шпионский роман. Во-первых, для меня действительно идеальным вариантом, который мы могли бы предложить, было бы наличие большого нарратива, который дробится, и может дробиться и быть помещенным в разные музеи, из которого мы бы исходили, создавая экспозиции.
Второе, что я хотела сказать. Есть реплика, которую я получила в музее «Пермь-36», мы ездили на школу музеологии, рассказывали об исследовании, от коллеги, которого мы давно знаем, он сказал: «Понятно, какой у вас… Если уж использовать ваши литературные метафоры, то тип музея, который был бы идеальным, это в жанре описывается, как роман, роман народа с властью». Так он сказал. Как раз история того, как эти все репрессии оканчиваются, я не сказала бы женитьбой, но полюбовным типом отношений, как раз тем, чего мы ждем. А мы не знаем, как эту историю дописать, где мы находимся здесь и сейчас. Вот в чем для меня еще проблема. Потому что всякий раз, когда мы говорим о репрессиях и тех уроках, которые мы выносим в ситуацию «здесь и сейчас», у нас просто в современности много проблем еще.
- Юлия ЛИДЕРМАН: Очень интересно, в процессе обсуждения несколько выявилось таких тем. Во-первых, по поводу критики вашего проекта еще добавлю. Кроме того, что статья не написана, видимо, в процессе обсуждения стало понятно, что плохо, что вы не нажали на болевые точки. То есть, то, что вы сделали якобы думая, что вы не хотите переходить на личности и, в общем, такую логику можно понять, но, видимо, для музейной экспозиции это нехорошо и нужно было нажать на болевые точки. То есть, представить артефакты, представить документацию того, что вы видели, кроме метафоры. Оставить метафоры, но еще, как здесь предлагалось, аудио-файлы, видео и т.д. Значит, это, видимо, в минус.
И еще, что стало понятно, это то, что открываются возможности нового проекта у вас. То, что вы здесь предлагали, это, конечно, нужно продолжить и уточнить, чем являются репрессии, именно само вот это неопределимое понятие, о котором Ирина Лазаревна говорила и которое историки не определили еще, в этих нарративах. Тогда это многообразие, может быть, станет более понятным, чем оно там является. То есть, оно там отсутствует, оно там превращается в стихийное бедствие, оно там превращается в Господне испытание и т.д. И тогда это превратится в критику. То есть, добавить документальности и добавить вот этого теоретического концептуального еще усиления, видимо так.
- Алексей ЛЕБЕДЕВ: Есть еще один вопрос, если на будущее. Меня немножко пугает слово «нарратив» в принципе, потому что, по-моему, как термин вот этот нарратив он сейчас поплыл. То его понимают широко, то его понимают узко. И когда говорят «нарратив», я чего-то вздрагиваю. Когда еще речь идет исключительно о текстовой форме, то это понятно. А когда речь уже идет, например, даже об экспозиции, которая есть все-таки набор некоторых визуальных образов, и если говорить об экспозиции, как о типе языка или текста, то все-таки это такой язык, где говорят не словами, а предметами. И в этом смысле, может быть, я жестко скажу, но, строго говоря, если вы можете выстроить некое повествование нарративно, тогда не надо делать экспозицию. И в принципе, экспозиция по смыслу должна дополнить как раз именно разрывы в нарративе.
Но кроме всего прочего, есть еще один момент. Хорошо, давайте считать широко, пусть экспозиция – это повествование. Но далеко не всякая экспозиция музейная строится и должна строиться, как повествование. Ну, например, есть такое явление как гедонистический музей. Мало того, ведь вы понимаете, конечно, наше музейное дело – это немецкое музейное дело. Потому что наши все музеи построены по немецкой модели. То есть, музей у нас – это все-таки музей как форма просветительско-образовательная, и все наши музеи старые, в основном, они все сделаны по этой модели. Но от этого весь мир уходит, и даже мы постепенно уходим. И в этом смысле, как это ни странно, вот сейчас, может быть, парадоксальную для вас вещь скажу, но вот в той мере, в которой вы тяните в музей нарративность, вы идете в противоход с основными тенденциями мирового музейного дела, и даже с нашими. Тут тоже есть, над чем задуматься.
- Дмитрий КОКОРИН: Я, с одной стороны, очень склонен разделять критику, которая была сказана по вообще литературной рамке. Потому что в какой-то степени мы ее держались как какого-то спасательного круга, потому что она позволяла все-таки внятно обобщить большую часть наших наблюдений, как нам казалось. Но, тем не менее, мне бы хотелось просто как свидетельство того, что она имеет право на некоторую жизнь напомнить такую вещь, что наши музеи это передовая музейная практика. Но это существующая музейная практика у нас, воспринимается, в основном, через роль экскурсовода. Сегодня Саша это нам блестяще продемонстрировала, но мы это видим каждый день в каждом музее.
Существует не только предметный мир музея, существует, конечно, некоторое выученное повествование, которое рассказывает экскурсовод. Который, в частности, например, в Государственном музее современной истории я слышал такую фразу мимо проходящего экскурсовода: «Это у нас зал про 30-е годы, где мы показываем светлые и темные стороны 30-х годов». И при этом темные стороны показаны совершенно анонимными, ну, то есть, не анонимными, а там есть три наши наркома расстрелянные, про которых написано, что «вот это Лаврентий Павлович Берия, это Ежов, вот они были наркомами, а потом были расстреляны». Никаких атрибуций о том, что они делали и т.д. Есть вполне ясное свидетельство того, что наш музей строится часто, как пересказ некоторой инструкции, которая в советские времена была ему написана, что ему нужно делать. Первое.
Второе. Есть еще пересказ этого музея, который говорит экскурсовод, и там есть действительно какие-то жанровые закономерности. Мне кажется, мы пытались их поймать, но, может быть, не получилось что-то.
- Алексей ЛЕБЕДЕВ: Вы знаете, тут опять мы выехали. Вот, смотрите, сразу выехали за пределы темы. Вы правы абсолютно. Конечно, есть такая культурная кривизна, идущая с 19-го века, когда Россия родила такую великую литературу, которая съела другие искусства, в сущности говоря. И у нас и живопись стала литературной, и т.д. Если до сих пор вы просто по часам посмотрите программу, например, средней школы и сравните, сколько часов посвящено литературе, и сколько часов посвящено, скажем, изобразительному искусству, то вы сразу получите ту пропорцию в сознании наших граждан, которые и занимают эти вещи. Отсюда именно в нашем музее экскурсовод – это любимый человек, потому что он толмач, он переводит с языка предметов на привычный и обкатанный язык слова. В этом смысле у итальянцев, у них все наоборот, они смотрят глазами и даже руками разговаривают, у них другая противоположность.
Но это проблема, не имеющая отношения к ГУЛАГу и репрессиям, она намного шире. А во-вторых, вы понимаете, тут тоже какая-то сбивка. Одно дело, чего понимает наш зритель, и какой язык ему привычен; а другое дело, каким языком и инструментом пользуетесь вы как исследователь. Вот, например, если взять ту же экспозицию. Раньше все клеили макеты из картона, и зритель их любил. Сейчас стали делать 3D, потому что нынешней молодежи 3D нравится больше, чем макет из картона. Ну и что, собственно, от этого меняется? Я как раз считаю, что в вещах таких можно делать вполне поблажку в сторону восприятия, что человеку понятнее, тем и пользоваться. А вот почему надо обязательно перегонять в текст, раз это экскурсоводы тоже перегоняют в текст, ну, как бы не факт.
- ……..: Можно предложить ответ, почему мы сейчас обречены на то, чтобы перегонять в текст. Потому что пока уровень общественной рефлексии на эту тему настолько низок, уровень вообще просто элементарных знаний на эту тему так низок, что мы находимся на уровне просто начальной школы в этом смысле. А что делать музею? Он должен в своей экспозиции это показывать.
- Реплика: А я говорю, вот опубликовать результаты исследования в книжке, тогда логично было бы. Хотя бы один раз.
- …….: Это, скорее всего, будет сделано.
- Сотрудница Государственного музея истории ГУЛАГа: Толмачом, как угодно, тут сказали. Тут говорят об итальянцах – я согласна с вами, итальянцы не любят слушать, они сами любят говорить. А вот немцы с удовольствием слушают экскурсию, и американцы тоже. Но, тем не мене, все-таки сотрудник музея историю ГУЛАГа, и вообще, желательно, чтобы этот «круглый стол», он перешел в музейный зал. Вот это было бы гораздо, может, возможно это осуществить. «Стол» поменьше, но, тем не менее, сама экспозиция музея – все это было бы гораздо, в следующий раз это возможно, наверное. И заодно очень много вопросов и критических, и т.д., и т.д. Поэтому, как экскурсовод, я вправе представить вам тех, кто приходит в этот музей. Прежде всего, приходят учащиеся, это входит в программы, и поэтому это приходят учащиеся. И все-таки, они хотят услышать слово вот это вот желание слова, живого слова, которое так необходимо. Конечно, можно все это записать. Нет, требуется все-таки слово, и пока экскурсия как таковая, она необходима.
Это самый разнообразный посетитель. То он увидел случайно название, то он в Интернете. Многие не знают, что такое ГУЛАГ, кто-то знает, поэтому очень много приходит к нам тех людей, которые нам возражают. Они жаждут дискуссии, они нам возражают, они со своими идеями: ГУЛАГ необходим, иначе нельзя было. То же самое было за рубежом, ну, разные такие позиции и т.д. Очень много к нам приходят, поток идет иностранцев. Это не только потому, что входит в программу, но и те, кто пишут свои статьи, работы. Сейчас на смену, когда-то был большой интерес к холокосту, сейчас большой интерес к ГУЛАГу, поэтому приходят со своими студентами, приходят со своими программами. Поэтому тоже постоянно, постоянно.
Что касается молчания. Конечно, молчание необходимо, безусловно, пауза, молчание. Если говорить уже о молчаливых экскурсиях, когда-то они были, в 20-е годы, молчаливые экскурсии, но все-таки это все не состоялось. Поэтому, конечно, вопросы экспозиции. Если бы собрались в нашем зале, то вопросы, проблемы — наверное, это было бы интересно.
- Реплика: Но мы же критиковали бы.
- Ян РАЧИНСКИЙ, член правления Международного Мемориала: Я хочу немножко подбросить керосина, оживить дискуссию. Я не музейщик, я вообще математик и к гуманитарным наукам имею отношение косвенное. Но именно с этой позиции буду немножко оспаривать тезисы. Последний тезис про то, что у нас литература очень виновата в том, что у нас так неважно дело с музеями, что слишком много ей уделяют внимания. Я не уверен, что в Италии
- Реплика: Другое было сказано, принципиально другое.
- Ян РАЧИНСКИЙ: Но восприятие именно словесное в связи с тем, что литература занимает гораздо больше места несопоставимо с изобразительным искусством. В Италии, я думаю, ситуация не очень сильно отличается, если говорить про школу. А преподавание словесности, в общем, это во всем мире занимает несколько большее место. Но я теперь хочу вернуться теперь к началу, к вопросу об экспозиции. Не могу сказать, чтобы я был абсолютным поклонником этой экспозиции, но если говорить о том, что можно ее использовать или нельзя, надо сначала определить, а для чего вообще она создается. Если для доступного музея, для широкой публики, ну да, наверное, довольно много людей просто не поймут, о чем речь. Собственно, она и адресована несколько другому кругу. Скорее, вот именно тем, кто, так или иначе, соприкасается с музеем и что-то пытается в этих музеях делать.
И в этом отношении, по-моему, она свою роль в известной степени выполняет, обозначив, в частности, вот эту типологию. И дальше предложено обсудить, что мы хотим видеть в экспозиции памяти – поминовение или рассказ о достижениях. Можно этот вопрос продолжить: хотим мы видеть этот тип, или вот этот тип, или вот этот тип, или мы хотим понять, как они должны быть сбалансированы. Можно ли обойтись каким-то одним или можно вообще без какого-то одного из них хотя бы; могут ли какие-то быть признаны лишними, вот как с этой типологией быть, что дальше делать.
Дальше возникает следующий вопрос, действительно то, что говорят «нарратив». Не нарратив, а передовые тенденции – не передовые тенденции. Я всецело за передовые тенденции, но боюсь, что передовые тенденции никогда не могут быть массовыми. А от музея, как.., извините за плохие выражения, проводника просвещения в большой степени мы отказаться еще долго не сможем. Это не значит, что в столицах мы должны ориентироваться на эту вот культпросветмассовые аудитории исключительно, но что эта задача никуда не денется в ближайшее обозримое будущее, что не найдется у большого количества музеев никаких возможностей усвоить эти самые передовые методы, тоже ясно.
И дальше возникает вопрос, а как нам подавать вот эту историю, потому что здесь мы имеем несколько специфическую ситуацию. В большинстве случаев нарратив имеет сугубо нейтральную окраску. Ну, вот 19-й век, оно уже давно было, мы уже знаем, что и как было, и ничего там такого экстраординарного, никаких сугубых людоедств не происходило, так, во всяком случае, выглядят все эти экспозиции. Вот оно шло год за годом. В 20-м веке мы имеем существенно другую позицию. Если, скажем, в Освенциме выстраивать экспозицию с этой точки зрения, мне кажется, не специалисту, еще раз подчеркиваю, мне кажется, по-своему, проще, потому что оценка событий гораздо яснее и понятнее. Вот должны отказываться от этих успехов, которые были, или должны ли мы умалчивать, или все же нам нужно пытаться найти какое-то совмещение, и как в этом совмещении могут быть использованы разные типы повествования. Мне кажется, что это было бы интересно обсудить. Прошу прощение за непрофессиональное суждение.
- Наталья БРИКЕР, рязанский филиал «Мемориала»: Я не являюсь ни историком, ни социологом, ни культурологом, поэтому я, скоре, буду говорить, как человек, которому интересно преподнесение темы репрессий. Мне кажется, к чему вы пришли в ходе своего исследования, вообще, любая классификация и попытка классификации, она полезна. Но классификация, которую вы предложили, она применима на самом деле не только в музее. Она применима вообще к тем попыткам осмысления истории репрессий, которые существуют на данный момент. Если вы посмотрите, например, на памятники или памятные знаки, которые существуют, то там вы обнаружите, может быть, вы это сформулировали бы по-другому, но примерно то же самое.
Если вы вообще посмотрите на риторику, на то, как обсуждается эта тема, то вы тоже увидите примерно то же самое, что вы описали в своем исследовании. То есть, вымещение из памяти, когда мы говорим, что была победа, не было репрессий, и репрессии были оправданы; есть типа «ужас-ужас», когда страшные какие-то вытаскиваются подробности. То есть, мне кажется, то, что вы нащупали, на самом деле, является просто как бы общим местом для всего этого. И проблемы тут не столько музейные, как мне представляется, сколько того, что на самом деле полноценной рефлексии не происходит. И музеи что делают в такой ситуации? И не только музеи, а те, кто вообще пытается как-то представить. Они фиксируют то, что могут. Фиксирует, например, краеведческий музей через запятую, как вы говорили, фиксирует события происходившие.
Мне кажется, что важно было бы рассматривать вообще все это с такой поправкой, какая задача у музея. Ну, так, по-честному, должна ли быть рефлексия в музее, или в музее должны быть представлены факты, которые зритель толкует по-своему, ну, факты или артефакты. Мне кажется, что было бы важно ответить на этот вопрос с точки зрения задач музея. То есть, вопрос звучал бы так: как, исходя из своей задачи, музеи представляют истории репрессий. И это было бы более ценно, как мне кажется. Хотя классификация, я еще раз повторю, она в любом случае нужна.
- Алексей ЛЕБЕДЕВ: А вы всерьез задаете вопрос? Ваше предположение всерьез о том, что музей может просто представить факты и не давать никакой интерпретации?
- Наталья БРИКЕР: Понятное дело, что интерпретация будет уже даваться тем, как представлено, конечно.
- Алексей ЛЕБЕДЕВ: Есть же известная ситуация с мемориальными как раз музеями, на чем всегда обжигаются. Это вот была история с квартирой Ермоловой, например, в Москве. Вот умерла великая актриса, и прямо тут же сказали: «О, ничего не трогаем, все закрываем, делаем музей». Вот на стуле висит ее шаль, брошенная ее личной рукой; вот стоит катушечка ниток, в которую иголочка ее личной рукой воткнута. Все аутентично до местоположения предмета! Все просто супер. Одна проблема – Ермоловой нет. Ну, жила старуха какая-то. Понимаете, да?
- Наталья БРИКЕР: Я, конечно, понимаю. Я, скорее, говорю о той степени, в которой должна присутствовать эта рефлексия в музейных экспозициях. Потому что когда зритель в ходе осмотра экспозиции видит, что ему пытаются представить репрессии, как «ужас-ужас», как вот ГУЛАГ, мне кажется, происходит искажение послания в любом случае. И мне кажется, как потребителю культуры, должна быть очень четкая вымеренная степень навязывания своей оценки событий в музее. В других местах — может быть; в исторических исследования — может быть. Я, честно, говорю как потребитель, поэтому это всего лишь свое впечатление от экспозиции, представленной авторами исследования, кусочки которой я увидела.
- Дмитрий КОКОРИН: Я не знаю, я тут, как всегда, буду оправдываться, но, на самом деле, смешно оправдываться, потому что это не задача «круглого стола». Мне кажется, Наташа, когда вы говорите о задаче, то мы тут еще сдвигаем предмет обсуждения. И есть риск уйти в какую-то совсем морально-политическую философию и говорить о том, что мы считаем истинным и справедливым, и дальше – какие должны быть институты просвещения, которые, как говорит Ян Сбигневич, это делают и т.д. Но тут в какой-то степени важно, что этот проект делал не институт культурологи, а «Мемориал». И у нас есть некоторые консенсусы в каких-то вещах, на «шапке» проекта написано же, что проект делал «Мемориал», и понятно, что у нас нет вопроса, должны ли быть представлены или не должны быть представлены репрессии в музее. Да, конечно, она должны быть представлены в историческом музее абсолютно точно. Или они должны быть адекватно представлены в музее, который тематизированно посвящен этим репрессиям. Тогда, соответственно, у нас возникают две разные шкалы оценки, как минимум.
Первая. Есть ли какая-то репрезентативность, вообще, являются ли эти факты исторические, эти события, которые можно по-разному интерпретировать и т.д., являются ли они вообще референтными для авторов экспозиции. Для музея на Поклонной горе они как бы вообще не элевантны, нет никаких объектов, которые были референтами этих событий, в музее на Поклонной горе просто ничего нет. Это, на мой взгляд, уже вопросы политические, почему в главном музее страны ничего нет. И как для «Мемориала, это вполне политический вопрос для нас.
Дальше на счет того что нарратив о 19-м веке сформировался, а о 20-м веке не сформировался. Он много раз по-разному формировался. И если мы очень тщательно, не так, как это действительно выглядит в нашем вторичном пересказе, а если мы обратимся к наблюдению, которые мы не до конца сформулировали и т.д., если мы приходим в музей государственный современный, я сейчас могу перепутать название, но вот в музей на Тверской площади, там музей современной истории России, то что мы там видим? Мы там видим прекрасный центральный музей о 19-м веке, остатке этой былой роскоши. Вот центральный музей, советский нарратив о том, как выглядела история. Мы там видим прекрасные космогонические мифы советские, которые немножко подверглись какой-то небольшой эрозии. Это несколько более глубинный слой, чем тот нарратив, в котором это выстроено. Но там есть свидетельства, как бы кодификация этих советских мифов. Там есть про 19-й век, прекрасные, очень большие инсталляции о том, как в царских тюрьмах пытали, задерживали очень долго доблестных большевиков. И эта экспозиция, как такой реликтовый камень, она там осталась и ее намного больше, чем экспозиции, которая посвящена 30-м годам. И там, где это посвящено 30-м годам, там вот эти подписи, о которых я говорил. И, соответственно, с точки зрения производства впечатления, с токи зрения такого музейного качества, может быть, это не самый плохой музей. Детей он будет очень впечатлять, он начинается с экспозиции о государственном флаге, президенте Медведеве, инаугурации. Эрозия советского космогонического мифа там превратилась в такой еще более абсурдный российский космогонический миф.
И дальше та литературная рамка, которую мы пытались держать. Она, конечно, не позволяет все это выразить, но какие-то вещи мы пытались поймать. Когда мы говорим о летописи, понятно, что в летописи всегда есть какой-то космогонический миф, с одной стороны. С другой стороны, дальше там есть какая-то каша событий, которую как бы окружают летописцы. И, вообще, главный тип нарратива, с которым мы столкнулись, это каша. Вот. И мы дальше пытались огранить это во что-то, что можно сказать, во что-то ясное. Но это не так уж просто было сделать, потому что хотелось сделать что-то выразительное, в том числе и визуальное из той каши, которую мы увидели. А видели мы одну кашу, и это было довольно проблематично.
- Галина ОРЛОВА: Все, больше не могу молчать, честное слово, после слов о каше. При всем моем позитивном отношении к проекту, может быть, я разражусь сейчас самым жестким высказыванием в отношении того, что вами было сделано. До тех пор, пока вы будете вписывать не литературный материал в литературное прокрустово ложе, вы будете опознавать окружающую вас музейную реальность, как кашу. В этом смысле я хотела в своем представлении продолжить то, о чем говорил Алексей Валентинович. Работа с визуальностью и материальностью на протяжении второй половины 20-го века во многом шла по логике семантизации и вписывания как бы других модальностей в модальность текстуальную. Какой деструктивный эффект подобного рода аналитических действий? Повышенная риторичность, сниженная критичность, соответственно, высокая степень убедительности и, как мы сегодня видели, порождение новой антологии. Еще чуть-чуть, и ваши 5 типов можно будет золотыми буквами вписать, я не знаю, где, здесь, например. И обнаруживать и вписывать все многообразие окружающей реальности в эти или в какие-либо другие 5 типов.
Что будет оставаться? А за строкой будет оставаться каша, с которой нужно что-то делать и которую нужно как-то экспонировать. Это то, что мне не нравится в этом проекте, откровенно не нравится. И поскольку оно постоянно возвращается в качестве ядерной характеристики проекта, я просто не могу об этом не сказать. Все остальное мне нравится. Мне нравится постановка вопроса о регулярности способов порождения прошлого, в данном случае, репрессивного прошлого, советского прошлого на музейной территории. Что делать?
Вот нечестный ход был, переход в экскурсионную практику, потому что вы подменили отсутствие аналитической модели, заточенной на литературоцентрический материал, литературоцентричностью объекта. Есть ли модели, которые позволяют решать ту задачу, которая перед вами стояла, не уничтожая специфики фактуры объектной, материальной, визуальной? Они есть, можно и дальше продолжать говорить о плебсе, который там говорит, а не видит. Я хотела бы привести в качестве примера проект Евроньюс. Помните, когда они запустились на российских экранах с вот этим режимом ноу комменс? Они и сейчас так есть, но просто в момент, когда они запустились, это был небольшой культурный шок. То есть, как это так, в стране, где всегда привыкли слушать новости как текст, и вдруг идет картинка, а дальше идет вопрос: изменяется ли там ситуация. Мы не попали в Италию после этого, но, тем не менее, возникла такая италийская лужайка возле экрана, где появилась возможность смотреть, не обязательно слыша вот этот рассказ поводыря, то есть, диктора, и появилась возможность видеть аналитически.
Одна из самых позитивных штук, которая есть в вашей выставке, это постановка вопроса об аналитическом взгляде: как передавать исследовательскую и аналитическую информацию не текстуальными средствами. Но отчасти вы снимаете всю продуктивность и эвристичность поставленного вами вопроса, возвращаясь на эту литературную лужайку. Я действительно, не риторики ради — мне нравится то, что вы делаете. И в этом смысле, активный разговор о том, что мне не нравится, просто продолжение того, что в целом моя симпатия на вашей стороне. Что делать? На мой взгляд, один из самых сложных моментов на сейчас, неважно, мы будем говорить, что она готова для публичного экспонирования или является выставкой для своих; черновой это вариант или чистовой — в любом случае, на мой взгляд, есть что лично мне не хватает в этом проекте.
Мне не хватает визуальной артикуляции деталей. Или, если угодно, аудио- визуальной артикуляции деталей. Если вы говорите о том или ином варианте проектирования и экспонирования вот этого репрессивного прошлого – хорошо, а дальше что там показывается, а что там рассказывается? Если уж речь пошла об экскурсии. Что представлено в виде картинки, что в виде материального артефакта, а что в виде таблички с подписью? Если вводить вот эти система расчленения, вы получите гораздо более сложно организованную структуру координат. Да, почти наверняка она вам не позволит жестко вписаться в известный жанр. Но в ваших правах придумывать свои имена. Конечно, это будет сложнее. Как хитро работает нынешняя ситуация: вы сказали «летопись», и вам можно уже не говорить особо ничего. То есть, имя совершило структурирующую работу в нашем сознании за вас. Если вы и дальше хотите использовать ресурс чужих имен для риторического воздействия на аудиторию – пожалуйста.
И момент, который мне показался очень продуктивным в том, о чем говорила Юля. При подобной постановке вопроса, такой аналитической, действительно, очень красиво и интересно говорить о, так называемой, ну, вот как это в аналитике обозначается, «система ограничений на порядок производства высказывания». То есть, что это означает в данном случае — как такой формат подачи информации экспозиционной ограничивает наше представление не только о репрессиях, не только о прошлом, не только о советской субъектности, идентичности, власти. Измерения, которые буду возникать, по идее, это эмпирические измерения, с которыми вы сталкивались в ситуации анализа, и их хорошо бы тоже сделать видимыми. Слишком много невидимого в представлении самого проекта, что не делает его неинтересным. Спасибо.
- Алексей ЛЕБЕДЕВ: Еще можно одну реплику короткую? Я хочу добавить, что дело обстоит еще хуже. Там не одна каша, там две каши. Понимаете, в чем дело. Потому что есть каша под названием «действительность», о которой вроде как музей должен рассказывать, а есть каша под названием «коллекция». И вот этот вечный вопрос музейной философии, что музей предъявляет: он предъявляет историю или он предъявляет свое собрание. И две крайности этого предъявления, пользуясь вашим примером: если у нас в собрании нет ничего про репрессии, значит, тогда мы рассказываем историю ХХ века без репрессий. Ну, у нас же нет собрания. Или ситуация, о которой я описал ГИМО: ну, вот если у нас нет ничего по Чудскому озеру, значит, мы гальваники поналожим рядом с уникальными вещами, и все у нас будет одинаково, что из пластмассы, что из золота. И это тоже вопрос, раз уж вы с музеями работаете.
- Александра ЛОЗИНСКАЯ: Такое резюме, скорее, не к обсуждению, которое состоялось, а к каким-то собственным мыслям, которые появились в результате осмотра выставки, и вообще увиденного. Скорее всего, наверное, прав я или нет, уже решать вам, что вопрос сегодня в фактическом русле ставиться таким образом, что вписать фрагменты истории репрессии в существующие музеи невозможно. Я не беру исключение: в такой например, можно, а в этот — нет. Речь идет, видимо, наиболее продуктивный разговор сегодня или выводящий в какое-то практическое русло, есть разговор о создании отдельно существующей экспозиции или музея. Вот, все, собственно говоря. Если говорить о вписывании музеев в существующие конструкции, их может быть, сколько угодно, хотя мы должны будем тогда уйти от истории репрессий. Например, как вписать в музей историю репрессий, если, например, в музее нет ничего о первой мировой войне? Ну, например. Очень часто ее вообще не существует во многих музеях, или не существовало. Я тут, может быть, передергиваю, но, кажется, мне такое попадалось. И так далее.
- Алексей ЛЕБЕДЕВ: А можно спросить устроителей: вы какую цель ставили? Вы получили ответ, задачи у вас как бы исполнились? Тогда не имеет смысла как бы продолжать. Или вы хотите еще что-то? Потому что есть, что сказать, но имеет ли это смысл?
- Александра ЛОЗИНСКАЯ: Что мы хотели «круглым столом»? Я думаю, что мы не говорили о тех вопросах, которые мы для себя поставили по результатам исследований, которые мы заявили. Но мы получили очень важную критику того, что мы сделали.
- Дмитрий КОКОРИН: Все очень просто. Мне кажется, мы в какой-то степени совершенно сознательно пошли на провокацию вообще в целом в этом проекте. И для меня это был довольно сознательный выбор, и вообще, проект был от начала и до конца экспериментальный, его делали очень молодые сотрудники и дизайнер, который никогда не занимался проектированием музейных экспозиций. Это был тоже мой сознательный выбор. Я хотел, чтобы это было сформулировано так, чтобы это ставило жирный знак вопроса и перед исследовательским, и перед музейным сообществом. И в какой-то степени я очень удовлетворен результатом дискуссии, которая произошла. Потому что и критика, которая прозвучала в отношении исследования экспозиции, она поможет нам дальше выстраивать следующие шаги, и по продолжению этого исследования, и по инструментализации и составлению каких-то рекомендация для музейного сообщества, с которыми «Мемориал» может выступать уже на совершено других уровнях.
В принципе, я, конечно, очень удовлетворен. С другой стороны, если есть еще какие-то соображения, может быть, не такие полемические, а именно рекомендационные, то я бы очень хотел их услышать. Потому что довольно сложно собрать такой коллектив, который собрался, и если у вас есть еще какие-то мысли, то я был бы рад.
- Алексей ЛЕБЕДЕВ: Я могу вам дать совершенно практические рекомендации применительно к тому, что я понимаю, что вы будете это в «Пермь-36» переводить. Сейчас, сформулирую. Значит, экспозицию вашу надо сделать гораздо более нарративной. Простая вещь, у вас 5 типов. Вот эти 5 типов, они должны быть, например, выделены единым цветом и фактурой. То есть, если у вас разные щиты – в одном случае серые, в другом случае бумажные, в третьем случае дощатые, а в четвертом случае фанерные, то это зрительно должно отделяться. Вот 5 компартиментов. Нужно написать, извините меня, заголовки ваших типов и повесить в каждом отсеке. И вообще, в идеале, я не знаю, какое вам там дадут помещение, но лучше, чтобы это было 5 маленьких помещений.
Я не буду лезть глубже, внутрь того, что у вас там на щитах. И, кроме того, экспонаты – главное, а мультимедиа – второстепенное, поэтому осветить ваши фотографии и пригасить вашу проекцию. Но это такая азбука экспозиционного дизайна. А в следующий раз зовите лучше художника, который не первую экспозицию делает.
- Наталья КОЛЯГИНА, сайт «Уроки истории»: Раз речь пошла о конкретных вещах, мне, конечно, будет проще в этом поле. Мне кажется, в выставке очень сильно не хватает как раз тех текстов, которые Саша проговаривает, и ответов на те многочисленные вопросы, которые ей задаются. Надо предположить, что выставка будет посещаться без экскурсионного сопровождения, а соответственно, каждый объект должен сопровождаться каким-то пояснением, что это за фотографии вокруг; что это за объекты, нарисованные, изображенные на каждом из стендов, и т.д. Почему выбраны именно эти фотографии в рамки и внутри экспозиции о Поклонной горе, что это. Ну, фактический, документальный комментарий. Извините за банальность.
- Алексей ЛЕБЕДЕВ: Там есть проекции……… (не слышно). Я не знаю, как у кого, но скорость чтения…….. скучать до тех пор, пока экран, а я не самый быстрый чтец в этом смысле. То есть, хотя бы увеличить темп показа текстовых этих самых штук. Хотя я не понимаю, зачем эти тексты нужно показывать в виде проекции. А почему их как экспликацию не повесить в каждый отсек, и все? Я бы понял, если бы ты там играл какой-то зрительный ряд эффектный, в этих проекциях. Но зачем читать тексты с экрана, потому что у каждого разный темп чтения, что это дает? Картинка движется, она отвлекает. И собственно, то, что вы показываете – в тени. Это такие чисто дизайнерские штуки, это не к вам. Но есть такие элементарные вещи. Просто, чтобы вы понимали, с точки зрения дизайна вы сделали 4 ошибки в слове «еще», вот то, как устроена эта экспозиция.
- Юлия ЛИДЕРМАН: Пару слов. Если вы будете писать текст перед тем, как вы повезете эту экспозицию, то нужно, видимо, сакцентировать, снять вопросы такие: о чем идет речь? О представлении прошлого, или о представлении исторических рассказов об истории? Это представление или это только рассказ? Если вы уберете слова, что здесь возникают эффекты, воздействие, еще что-то, еще что-то, и вы скажите, что ваше исследование занималось проблемой рассказывания истории; если вы сфокусируете вашу идею очень хорошую, то будет эффект. Тогда снимутся вопросы о том, что эти вещи могут в других контекстах то-то и се-то, и т.д.
- Галина ОРЛОВА: Я не знаю, до какой степени это вписывается, и может или не может быть вписано в нынешний концепт проекта и выставки, но мне действительно не хватает некоторого сырца с материала, с которым вы работали внутри каждого типа. Если пофантазировать и допустить, что у вас действительно будет 5 комнат в Перми, например, в том смысле, что если у вас будет большее пространство, если у вас будет такого рода возможность, я вспомню только два проекта, которые работали с поверхностностями образов и изображений, как с аналитическими поверхностями. Это проект «Африка», который экспонировался на одном из венецианских биенале про индустриальное бессознательное. Совершенно отличная штука, просто поверхность, занятая известными индустриальными образами на металлических пластинах, время от времени прерываемая чем-то аналитически значимым. Это не означает, что это единственный способ решения этой задачи, но, тем не менее, один из способов решения задачи презентации вот этой поверхности изображений. Для вас она значима. Вроде как из них вы делаете свои выводы, но они невидимы.
И другой проект, это проект Льва Мановича, который связан с тотальными визуализациями. Он на своем портале «Манович.net» просто показывает, как с этими штуками работает он. Очевидно, есть еще тысяча и одни способ работы вот с этими поверхностями изображений. Может быть, какой-то из них вам сгодится. То есть, лично мне, как зрителю, это было бы полезно, иначе я должна вам верить на слово.
- Сотрудник Государственного музея истории ГУЛАГа: Пару слов скажу от Государственного музея истории ГУЛАГа. На самом деле с большим интересом мы посмотрели выставку, которую вы организовали, и послушали сегодняшнюю дискуссию. Но я не стала принимать в ней участие, поскольку я понимаю, что она, вот в моем ощущении происходило немножечко в другом ракурсе, в котором я привыкла эту тему осмысливать. Потому что действительно я мыслю в ракурсе музейной практики исторического исследования, и те самые вопросы, которые вы здесь сформулировали, я, когда их читала и пыталась прикинуть, что по этому поводу я могу сказать, я понимаю, что я могу сказать совершенно не то, о чем здесь сегодня говорилось.
С одной стороны, все это очень интересно и любопытно с точки зрения музейного работника, такой взгляд со стороны. Я тут не хочу высказывать каких-то обид и претензий на подглядывание и формулирование чего-то в рамках того, чем вы профессионально не занимаетесь, но это как бы ваше профессиональное поле, такого рода исследование, которое нам, в рамках того, чем мы занимаемся, тоже интересно именно как взгляд со стороны. Я не знаю, стоит ли здесь подробно об этом говорить, но с точки зрения историка-музеолога действительно какие-то вопросы, которые вы здесь ставите, то есть, я не могу их нормально обсуждать, не разложив по косточкам.
Я не буду тут углубляться в детали, но вот последний вопрос, какую историю и как должен рассказывать музей памяти, общероссийский музей истории политических репрессий. Вы, с одной стороны, искали, видимо, какой-то идеальный тип и его не нашли, и показали, что есть масса разных типов. С другой стороны, вы опять как-то объединяете этот вопрос и говорите, а каким же должен быть идеальный тип. И тут, как у практика музейного, у меня, разумеется, ответ отрицательный. Идеального типа быть не может просто потому, что нет двух одинаковых музеев. И должен ли быть музей, который освещает тему репрессий музеем памяти мемориальным или историческим музеем – это тоже вопрос, и на него никогда не будет однозначного ответа. Потому что какой-то музей связан с каким-то мемориальным местом, где действительно происходили какие-то события, связанные с репрессиями, а другой, как, например, наш музей, не связан. И сама вот эта тема, она в разных музеях сформулирована по-разному, и она задает совершенное определенное построение экспозиции. Потому что принцип построения мемориальной экспозиции, он совершенно иной, чем принцип построения исторического нарратива музея.
И то, как сочетать эти два подхода в каком-то конкретном музее – это третий вопрос. Но, тем не менее, спасибо большое за это обсуждение, которое как-то выводит на несколько иной план вообще все проблемы, над которыми, в любом случае, думаем. Потому что у нас сейчас идет довольно бурный процесс переосмысления такого, как надо выстраивать экспозицию внутри музея, и выход на такой уровень осмысления для нас очень важен и полезен, и поэтому спасибо вам большое, и удачи вашему проекту.
- Александра ЛОЗИНСКАЯ: Спасибо. Из последнего как раз такое количество рисков, которые учитывали, связаны с тем, что мы все-таки критикуем музеи. И при нем при всем, вы те немногие, кто с этим работает, даже не знаю, как сказать, не то, что принимает, а искренне ищет то же самое. Мы очень близки, просто потому, что у нас есть эта временная экспозиция в том месте, где будет постоянная, и наш вопрос тоже будет: что делать. Фонды – фондами, а что мы скажем, и что мы покажем, я думаю, что еще обмен опытом будет происходить в этой области. Я хочу сказать спасибо всем, кто присутствовал, и Алексею Валентиновичу, который, по-моему, убежал курить, и Ирине Лазаревне, которая попрощалась раньше, и Беленкин почему-то тоже убежал. Я не ожидала, что будет такая оживленная полемика. Мне казалось, что мы уже так все просто сказали, что есть очевидные сбои в том, что мы сделали, и есть очевидная продуктивность тех различений, которые мы предложили, и я очень благодарна всем присутствующим, помимо практических рекомендаций, за те вопросы, которые еще появились за время сегодняшнего обсуждения.
Мы продолжим это обсуждение в сентябре, сделаем какую-то более крупную встречу как раз музейщиков и теоретиков. И я думаю, что это будет, как минимум, такое же любопытное столкновение. Спасибо.
- Дмитрий КОКОРИН: Кажется, что просто иногда полезно ставить довольно простые банальные вопросы, и сразу же получаешь много вариантов ответа, и надо ставить следующий вопрос уже менее тривиальный, и мы будет в этом направлении двигаться. Спасибо большое. Здесь есть кофе, соки, разные воды, и можно расслабиться. Спасибо больше.
Конец записи