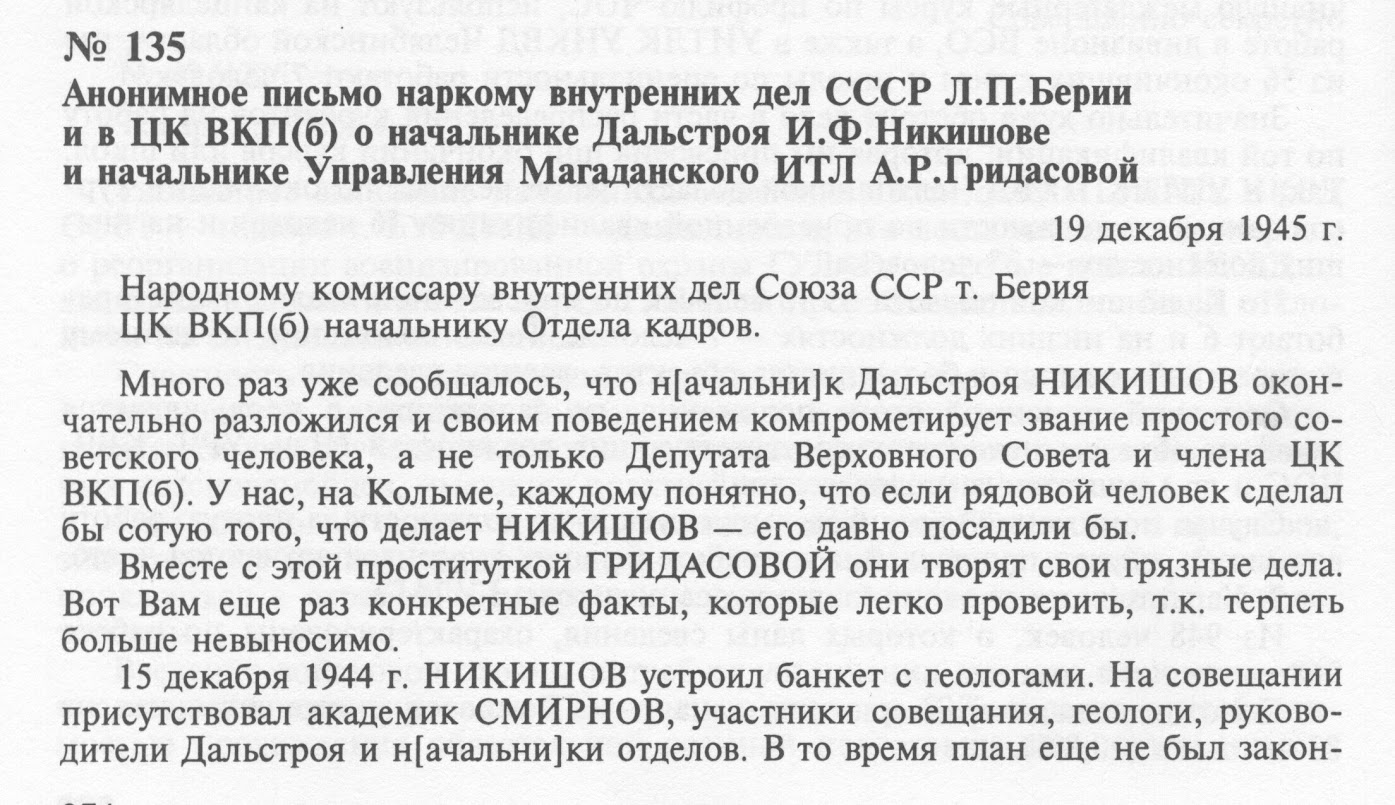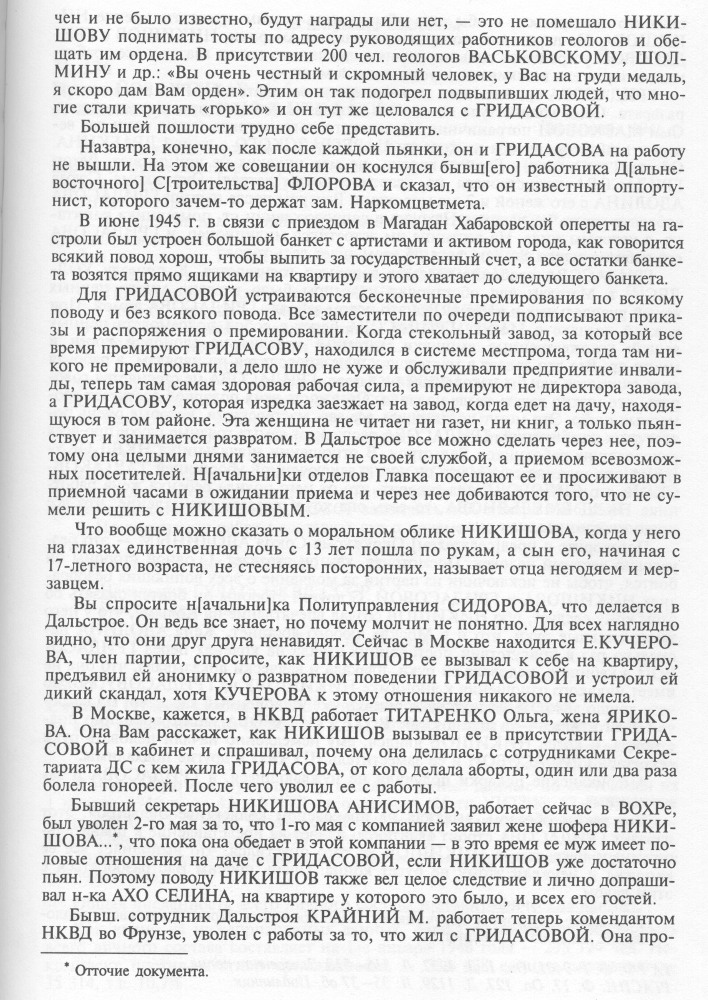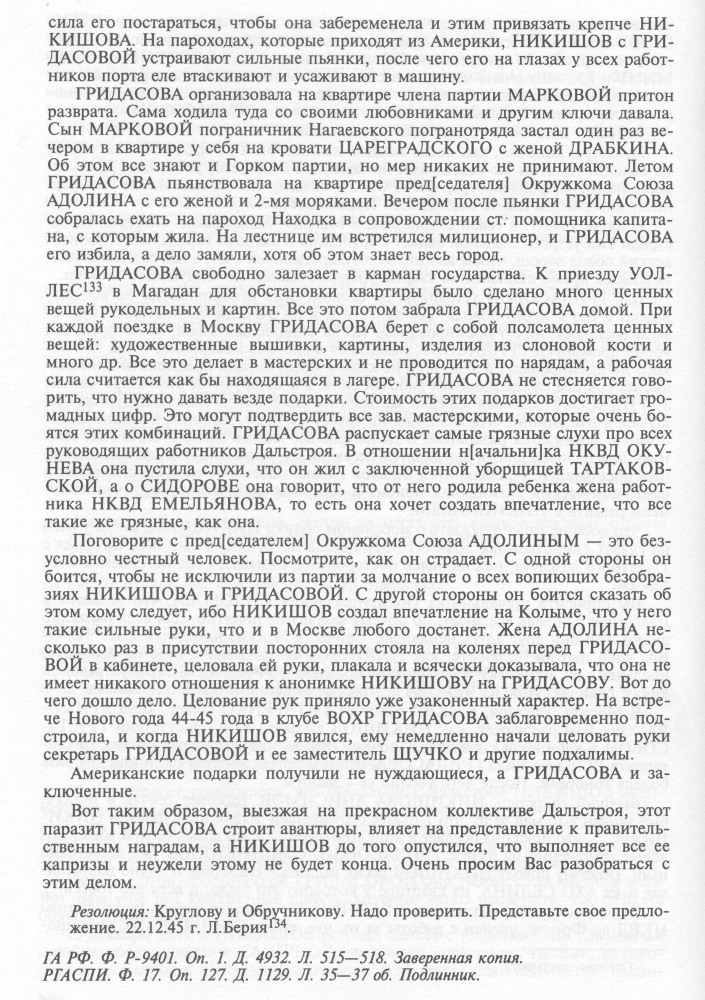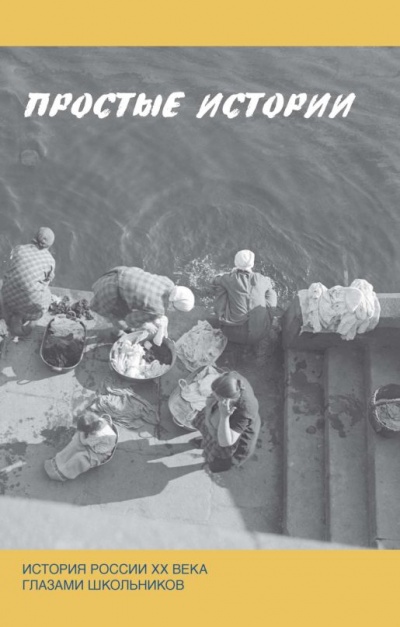Жена начальника Дальстроя
Недавно в Мемориал попали редкие снимки Александры Гридасовой, начальницы лагеря в Магадане. О том, какой след в лагерной литературе оставила фигура легендарной «колымской Салтычихи», читайте в статье Сергея Бондаренко.
«Дорогой Александр Исаевич.
Недавно мне пришлось познакомиться с мемуаром «Крутой подъем» и встретиться с его автором, некой Гинзбург…».
В 1965-м году Варлам Шаламов ещё ругал Евгению Гинзбург и переписывался с Александром Солженицыным. Через несколько лет всё изменилось – Шаламов выучил название книжки Гинзбург, а Солженицына заклеймил графоманом и «дельцом».
Оба, и Шаламов, и Гинзбург в своих книгах о Колыме упоминали об Александре Гридасовой, молодой студентке, приехавшей работать на Север после института и вышедшей замуж за годившегося ей в отцы лагерного начальника, руководителя Дальстроя Никишова. Гридасова – колымская Салтычиха, окруженная прислугой из заключенных, по своему усмотрению милует и отправляет на общие работы в забой. В анонимном доносе на Гридасову и Никишова, который публикует историк Никита Петров, она бесконечно пьянствует, путается с лагерной охраной, получает специальные награды и поощрения от собственного мужа, использует труд заключенных (которые, впрочем, только рады работать на нее, получая поблажки, в обход страшных и смертельных общих работ): «жена Адолина несколько раз в присутствии посторонних стояла на коленях перед Гридасовой в кабинете, целовала ей руки, плакала <…> Вот до чего дошло дело. Целование рук приняло уже узаконенный характер».
.png)
Гридасова молода, в конце 1940-х ей чуть за 30, но Колыма уже превратила её в «зверя». Говоря о ней, Шаламов использует риторику своих «Очерков преступного мира»: ничего общего с человеческой моралью мотивы поведения Гридасовой не имеют, она полностью растлена и не отдает никакого человеческого отчёта своим поступкам. В рассказе «Иван Фёдорович» Гридасова (которую Шаламов, как поэт, имевший склонность к классицистическому выбору имен персонажей, назвал «Рыдасовой») разлучает влюбленных друг в друга актёров лагерной самодеятельности. Хозяйка своего крепостного театра, Гридасова разводит любящую пару по разным лагерным управлениям, правда, замечает Шаламов, это было более мягкое наказание, в то время как Никишов предлагал этим не ограничиваться.
Гридасова у Гинзбург – тоже персонаж в чём-то классицистический, как императрица в «Капитанской дочке», она вдруг возникает в повествовании для того, чтобы разрешить все проблемы. Оказавшись у нее на приеме, Гинзбург, по принципу «плюнь, да поцелуй злодею ручку», «сознательно отбирала <…> те слова, которые могли оказать воздействие на любительницу чувствительных кинофильмов, бывшую надзирательницу Шурочку Гридасову. <…> выкрикивала именно те могущественные банальности, которые могли тронуть её сердце. О материнских слезах… О том, что чужой ребенок никому не нужен…» и неожиданно получает милость, долгожданную встречу с сыном. Deus ex machina требует божественного вмешательства, основывается на полном самовластии. И хотя Шаламов как будто бы пишет о «злой» барыне, а Гинзбург – о «доброй», никакой границы добра и зла здесь прочертить уже невозможно, они остались далеко по ту сторону колымской границы.
Фотография молодой Гридасовой попала в «Мемориал» от Любови Гавриловой-Шемен, одной из её лагерных «служанок», переживших своё заключение во многом именно потому, что ей удалось быть «при доме». Хорошая рукодельница, Любовь Гаврилова, получила в подарок на память фотокарточку Гридасовой. И сохранила её. В 60-е годы, по воспоминаниям Гинзбург, жившей в Москве Гридасовой случалось одалживать у своих бывших подопечных по «двадцатке» до зарплаты своего нового мужа. Ей «никогда не отказывали», и вряд ли по причине какого-то стокгольмского синдрома, по крайней мере, не только по этой причине – но и потому что лагерный мир, как всякий уважающий себя загробный мир, действует по собственным законам, несопоставимым с миром живых. Вернувшиеся оттуда узнают друг друга и двадцатки не пожалеют. Что, впрочем, никак не помогло найти общий язык Шаламову, Гинзбург и Солженицыну.