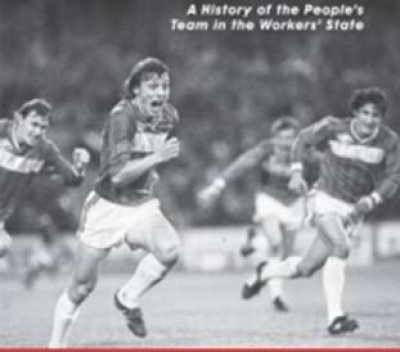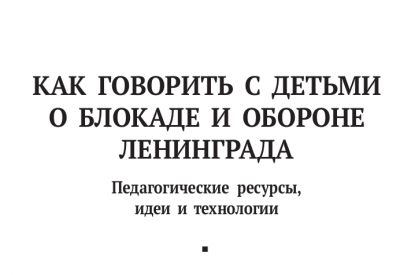Киров в себе и вне себя
Мемориальная квартира Кирова в Санкт-Петербурге – ритуальное нагромождение портретов, медвежьих шкур, «подарков от рабочих», полный гарнитур стульев «здесь сидел Бухарин», и кроватей с кушетками «а здесь лежал Орджоникидзе». Как и в тысячах других постсоветских мемориальных музеев, столовая здесь – повод поговорить о том, что «в пище Киров был неприхотлив, любил печеный картофель, пироги с капустой», впрочем – «за обедом не засиживался, а часть обеденного стола превратил в письменный», в частности, «здесь Киров написал свой последний доклад 1 декабря 1934 года».
Вот где-то там, между пирогами с капустой и предсмертным партийным докладом и пролегает сфера нашего интереса к музейной экспозиции.
Музей Кирова работает на Каменоостровском проспекте (в советское время — улица Красных Зорь), с 1955-го года. Он расположен в Доме Трех Бенуа — классическом ленинградском номенклатурном доме, местной вариации московского Дома на Набережной, не имевшим, к сожалению, своего Юрия Трифонова. В конце 30-х, в начале 50-х здесь происходили политические аресты. История внутренней экспозиции также нелинейна — наряду с неизменными комнатами с «прижизненной обстановкой», в отдельных комнатах работают также «За детство счастливое наше!» и история ребёнка в Ленинграде 20-30-х годов — от скаутских организаций к пионерской, с остановками на борьбе с беспризорностью и политической неграмотностью.
Политика сдержек и противовесов
Довольно просто было бы представить себе музей Кирова с перспективы постсоветского музея, рассказывающего о герое. С точки зрения построения экспозиции и рассказа, Киров, каким бы он ни был — остаётся «интересным человеком». Более того, если принять во внимание масштаб его деятельности (который очень точно прослеживается в коллекции преподносимых ему подарков — от гигантской медвежьей шкуры, до гигантской книги с фотографиями достижений очередного ленинградского промышленного производства), Киров пожалуй что и «великий человек». Его дом — лавка чудес современной цивилизации, начиная от системы отопления, и заканчивая новомодным холодильником General Electric и настольной лампой «гусь». Тот ли это Киров, что утверждал советскую власть на Кавказе? Тот ли, что занимался вопросами эффективного применения труда заключённых Соловецкого лагеря? Тот ли, что в составе «тройки» в начале 30-х осуждал «контрреволюционеров» на смертную казнь? Если вкратце — то нет, это не он. У такого Кирова, с точки зрения современной официальной российской музейной практики не может быть дома-музея, сами подогнанные друг под друга модели выставочного пространства и нарратива не допускают такой возможности.
Видео-экскурсия по музею
Потребительскому комфорту квартиры Кирова противопоставлена инсталляция-игра «Бери, что дают!», из которой должно быть ясно, что рабочий, номенклатурщик и «лишенец» имели разный доступ к продуктам ширпотреба. Таинственные и никак не откомментированные цитаты из Маркса и Сталина на сайте музея довольно туманно поясняют связь между роскошью кировской квартиры и нищетой обычного горожанина. Причинно-следственные связи нарушены — Киров, с одной стороны, главный человек в Ленинграде, от которого зависит принятие важнейших решений — это мы понимаем из истории его пребывания в номенклатурной квартире. С другой — ленинградцы вынуждены обходиться очень ограниченным набором продуктов, список которых определяется в прямой градации к их специфическому советскому социальному статусу.
Сергей Миронович Киров и обычный «лишенец» живут в одном городе, однако их пересечение возможно только по вертикальной оси — сверху вниз, если будет спущена соответствующая директива.
Похожим образом они сосуществуют и в кировском музее — как факты, как данность внутри одной отдельно взятой шизофрении, в которой Киров не несёт никакой видимой ответственности за жизнь горожан своего города.
Советское детство, или туда и обратно
Интерактивная (к выставке продаётся специальная ролевая компьютерная игра) выставка по истории советского детства устроена похожим образом. В ней, как и в квартире Кирова, выставлено очень много примечательных предметов — от одежды до обёрток от мороженого. Если бы советский ребёнок рубежа 20-30-х годов проживал свою городскую жизнь на витрине магазина (или в телефонной будке у дверей магазина, как Чебурашка) — то это была бы очень точная картина его быта. История его воспитания, трансформация из скаутов в пионеры помещена в одну большую фигуру умолчания, весь переход сводится к тому, что новая организация должна была нести «большее политическое значение» и по-другому повязывать галстук. Причины перехода, истории жизни первых скаутов — всё это остаётся за рамками повествования. И вновь, в роли «отдельных недостатков» выступает часть про борьбу с беспризорностью и таинственный серый стенд, несколько выбивающийся из ряда ярких экспонатов — со школьными сочинениями, восхваляющими Сталина и копиями каких-то актов местного НКВД. Они выступают в роли пояснения, комментария к сконструированной реальности, ремаркой в духе «ну, вы сами знаете…». Что именно это меняет в мире витрин и галстуков — остаётся не слишком ясным. В размытой картине реалий ленинградской жизни у Кирова только ограниченная ответственность, он выскальзывает из рассуждений о каких-либо сложных решениях, ловко встраиваясь в приличный своему облику героический и слегка насмешливый контекст: «Наиболее ретивые ленинградские коммунисты в свое время предлагали разобрать Казанский собор, однако С. М. Киров, при котором было снесено большое количество городских храмов, заметил, что это предложение внес «какой-то идиот»».

Директор музея Т.А. Сухарникова
Наверное, нет ничего заведомо постыдного в том, чтобы любить Кирова (в текстах на сайте музея он фигурирует также как «наш Мироныч»), но нужно ли любить себя в Кирове или Кирова в себе? То есть нужно ли идти к созданию выставки о Кирове из перспективы нашего к нему интереса и понимания его времени, или воспроизводить «аутентичную» картину его спальной, прилагая к ней каталог тех, кто в ней ночевал? Кажется, что музей обращает нас ко второму варианту, его Киров — это великий человек с маленькими и вполне располагающими к себе недостатками, существующий в странно-искривлённом пространстве современной ему жизни — с лишенцами, НКВД и какими-то намёками на культ личности. Единственное прямое столкновение музейного Кирова с этой реальностью — его собственное, почему-то «политическое», убийство.