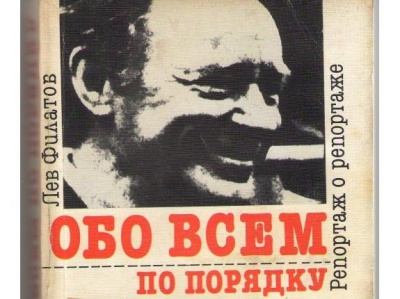Ученые ГАХН дома и на следствии / Доклад Марины Акимовой на семинаре «Москва. Места памяти»
Мой рассказ объединяет имена четырех человек: Г. Г. Шпета, Б. И. Ярхо, М. А. Петровского и А. Г. Габричевского – потому что их насильственным образом объединило одно следственное дело. С тех пор прошло ровно 80 лет. Мы можем как раз сейчас, в мартовские дни, вспомнить о днях другого марта, марта 1935 г., которые переломили судьбу каждого из этих людей. Их осуждение сломило не только их личную судьбу, но и роковым образом повлияло на судьбу их научного наследия. Поскольку они были репрессированы, их сочинения не могли появляться в советской печати; только с 90-х годов их труды начали постепенно осваиваться. Это происходит в разной степени: Шпет известен и понят сейчас лучше, чем, например, Михаил Петровский или даже Александр Габричевский. Однако, печатая сейчас работы Ярхо или Петровского, мы не догоняем упущенного времени: оно ушло навсегда, поэтому мысль ученого не будет ощущаться уже столь остро и актуально, как это могло бы быть, если бы его труд был опубликован в свое время. Научная истина, как говорил Ярхо, относительна.
Итак, объединяет моих сегодняшних героев не «дело», а принадлежность к интеллектуальной элите своего времени, к одному-двум поколениям ученых, благодаря которым произошел величайший расцвет науки в России. Вместе с тем это были люди «серебряного века». И на них лежит отпечаток этой культуры тоже. Все четверо были прекрасно образованы. Каждого из них отличает широкая эрудиция и блестящий ум. Все они были яркими личностями. Но главное, что мне бы сейчас хотелось в них отметить, – это свобода мышления. Не то, что мир вокруг пришел в движение – это понятно (революция, война, катаклизмы), а сама мысль подвижна и жива настолько, что видит проблему там, где, казалось бы, все решено; это начинает приводить систему к дисбалансу, начинается творчество, научное творчество.
 Каждый из персонажей моего рассказа – целый мир, и я не берусь описывать эти миры.
Каждый из персонажей моего рассказа – целый мир, и я не берусь описывать эти миры.
Я скажу несколько слов об источниках моего сегодняшнего сообщения, об источниках фотографий. Многие фотографии происходят из личного архива Ольги Сергеевны Северцевой, родственницы Габричевского и его наследницы. Они были уже не раз напечатаны. Какие-то фотографии я скопировала из книги Марии Густавовны Шторх, дочери Шпета. Там много фотографий. И ближе к концу я буду ссылаться на архивное дело, на следственное дело этих учёных, которое я изучала в Центральном архиве ФСБ. Я потом скажу, под каким номером это дело там значится. Часть фотографий я взяла с портала um.mos.ru и с «Москвы, которой нет».
Все вы прекрасно знаете, что Шпет – знаменитый философ с мировым именем, Габричевский – выдающийся искусствовед, Ярхо – один из крупных филологов 20 в., очень плохо прочитанный и неоцененный, а Михаил Александрович Петровский, наверное, наименее известный из них. Он был также филологом, занимался романо-германской филологией и, как и все они, переводил. Филологи больше знают его родного брата Федора Александровича, филолога-классика и переводчика античной литературы.
Александр Георгиевич Габричевский (1891-1968), Ярхо (1889-1942) и Петровский (1887-1937) были, скорее всего, знакомы с детства или юности. О. С. Северцева обратила внимание на то, что их отцы были либо биологами, либо врачами, и все – с университетским образованием. Отец Габричевского – Георгий Норбертович (1860-1907) – «первый русский бактериолог» [1], основатель Бактериологического института, который сейчас носит его имя и называется НИИ эпидемиологии и микробиологии. Отец Ярхо (упомянем еще его родного брата Григория Исааковича, тоже филолога) – Исаак Леонтьевич Ярхо был довольно известным в Москве детским врачом, работал в разных клиниках и имел частную практику (Георгий Костаки: вылечил Митю Костаки; А. А. Блюменау: вылечил моего брата). Отец Петровского – Александр Григорьевич Петровский – санитарный врач при Московском городском самоуправлении (то есть при Городской думе; она располагалась до 1892 во дворце Шереметевых на Воздвиженке, 6). Петровские жили буквально в соседнем доме, в Шереметевском переулке, (сейчас ему возвращено историческое название – Романов переулок), в 1920-е годы он назывался Серый пер., потом стал называться ул. Грановского. У меня нет фотографии, но я могу показать, что они могли видеть из своего дома – церковь Знамения на Шереметевом дворе (сейчас этот двор сильно перестроен, дом, в котором жила университетская профессура, возможно, ещё и сохранился). Сейчас там находится так называемый Романов двор, офисное здание, для нужд которого многое было перестроено, разные дома. Чтоб увидеть их, надо зайти во двор именно этого дома 2 по Романову переулку. Квартира была у Петровских большая – 6 комнат, после уплотнения (1924 г.) осталось 4, но всё равно жили довольно тесно, в 20-е годы с ними жила мама, Дарья Николаевна, сестра Елена, и по отдельной комнате занимали Михаил Александрович и Фёдор Александрович. В конце переулка, по левой стороне, ближе к Большой Никитской, в д. 9, кв. 3 жил Георгий Иванович Челпанов, философ и психолог, у него учился Шпет в Киеве. Сын его Александр Георгиевич стал филологом и тоже был арестован по тому же самому делу и расстрелян.
Я надеюсь, вы сейчас представляете себе этот Романов переулок хорошо – он соединяет Воздвиженку и Большую Никитскую улицу. На Большой Никитской, в самом ее начале, в здании Зоологического музея, была квартира биолога, впоследствии академика (с 1920 г.), Алексея Николаевича Северцова (сейчас его имя носит Институт проблем экологии и эволюции РАН). У Северцова была дочь Наталья Алексеевна. С 11 лет она была знакома со своим будущим мужем Александром Георгиевичем Габричевским, который, разумеется, сначала бывал у них, а потом тоже поселился в этой квартире. По воспоминаниям Натальи Алексеевны, у них в доме еще в 1910-е годы бывали братья Ярхо. На следствии Ярхо сказал, что с Габричевским он знаком с 1910-12 годов, а с Михаилом Петровским – с 1907 г., по университету.
Габричевский в детстве жил в Большом Чернышёвском переулке, дом 6 (ныне это Вознесенский переулок).
Это известный особняк с замечательной историей. Я думаю, многие знают этот дом. В 18 в. – владение Панкратия Сумарокова. Около десяти лет (до 1836 г.) там жили Баратынский с женой Настасьей Львовной, урождённой Энгельгардт. Затем он принадлежал Александру Владимировичу Станкевичу (1821-1912), общественному деятелю, публицисту и брату Николая Станкевича, который в 1840-е годы организовал знаменитый философский кружок. Мать Габричевского, урождённая Елена Васильевна Бодиско, была племянницей жены Александра Владимировича Станкевича, Елены Константиновны (Бодиско). И семья Габричевских жили в особняке Станкевича с конца 1890-х годов.

В Москву он приехал в 1907 г. по приглашению своего учителя Георгия Ивановича Челпанова. И был прикомандирован к Московскому Университету, в 1910-м году он становится приват-доцентом, в 1916-м – доцентом, и в 1918-м – профессором МУ. Таким образом, Шпет довольно быстро вливается в московскую университетскую, профессорскую среду, к которой принадлежали и наши герои. С Габричевским Шпет был очень дружен вплоть до самого ареста в 1935 году. В протоколах допросов зафиксирована его фраза о том, что «Габричевский – мой личный друг». Хорошие, теплые отношения связывали также Шпета и Михаила Александровича Петровского. По собственному признанию Шпета, он был мало знаком с Ярхо. Тем не менее, они друг друга довольно хорошо знали; во всяком случае, хорошо представляли себе научные взгляды друг друга.
Университет
Габричевский, Петровский и Ярхо учатся на историко-филологическом факультете Московского Университета, но, по-видимому, не на одном курсе. Петровский заканчивает в 1911-м, Ярхо – в 1912-м; они оба специализируются по западно-европейским литературам. Габричевский был на кафедре искусствознания, вскоре преобразованной в искусствоведческое отделение, которое он заканчивает в 1915-м. Всё это очень близкие годы, ясно, что в университете их общение продолжается. Ярхо и Петровский остались в Московском университете на кафедре истории западно-европейских литератур; они стали там почти одновременно приват-доцентами, затем профессорами и служили там до полного расформирования историко-филологического факультета в 1921 году.
 В 1910-е годы Ярхо с братом Григорием, матерью и, возможно, отцом (тут не очень понятно – дело в том, что в какой-то момент отец развёлся, покинул семью и женился во второй раз. Я не знаю, когда именно произошло фактическое разделение этой семьи). Во всяком случае, известно, что в 10-е годы они жили в Савеловском переулке, 9. Сейчас этот переулок называется Пожарский, и это не историческое название. На конвертах Ярхо надписывали адрес так – «Савеловский переулок, 9 в дом Стрекаловской больницы». Вот перед вами это здание. Больница так была названа по имени попечительницы, на самом деле это была больница для неизлечимых при Обществе поощрения трудолюбия. По-видимому, там у отца Ярхо была квартира, потому что он был врачом. Дома 9 тоже не существует сейчас, потому что в 1917-м году на том месте, где был дом 9, был построен новый дом, довольно изящный. В этом же переулке, фактически напротив больницы, в доме 12, жил Николай Николаевич Лямин. Больше всего он известен как друг Булгакова. Я не знаю, с какого времени он там жил (дом построен в 1905 г.), но, по крайней мере, с 1911 г. он там жил постоянно до своего ареста в 1936-м году. В этот дом он больше не вернулся. Я говорю о Лямине, потому что он тоже входил в кружок учёных, к которому принадлежали все наши герои. В самом начале 10-х годов Лямин уже точно был знаком и приятельствовал с Ярхо. Учился также на историко-филологическом факультете, изучал романскую филологию, после окончания курса в 1915-году был оставлен на кафедре.
В 1910-е годы Ярхо с братом Григорием, матерью и, возможно, отцом (тут не очень понятно – дело в том, что в какой-то момент отец развёлся, покинул семью и женился во второй раз. Я не знаю, когда именно произошло фактическое разделение этой семьи). Во всяком случае, известно, что в 10-е годы они жили в Савеловском переулке, 9. Сейчас этот переулок называется Пожарский, и это не историческое название. На конвертах Ярхо надписывали адрес так – «Савеловский переулок, 9 в дом Стрекаловской больницы». Вот перед вами это здание. Больница так была названа по имени попечительницы, на самом деле это была больница для неизлечимых при Обществе поощрения трудолюбия. По-видимому, там у отца Ярхо была квартира, потому что он был врачом. Дома 9 тоже не существует сейчас, потому что в 1917-м году на том месте, где был дом 9, был построен новый дом, довольно изящный. В этом же переулке, фактически напротив больницы, в доме 12, жил Николай Николаевич Лямин. Больше всего он известен как друг Булгакова. Я не знаю, с какого времени он там жил (дом построен в 1905 г.), но, по крайней мере, с 1911 г. он там жил постоянно до своего ареста в 1936-м году. В этот дом он больше не вернулся. Я говорю о Лямине, потому что он тоже входил в кружок учёных, к которому принадлежали все наши герои. В самом начале 10-х годов Лямин уже точно был знаком и приятельствовал с Ярхо. Учился также на историко-филологическом факультете, изучал романскую филологию, после окончания курса в 1915-году был оставлен на кафедре.
Теперь мы переходим к эпохе действия государственной академии художественных наук.
ГАХН
Государственная академия художественных наук открылась в 1921 г. и заняла дом бывшей гимназии Поливанова на Пречистенке, 32, – прекрасный особняк в стиле классицизма, архитектор Соколов, послепожарная застройка. Там учился, кстати, Михаил Александрович Петровский.
ГАХН действовала в 1921-1931 годах. Этот институт, объединивший различные гуманитарные специальности, был островом в море идеологического давления, принуждения и агрессивного распространения «пролетарской культуры». В ГАХН оказались многие из тех, кто имел еще дореволюционное образование, кто не эмигрировал и оставался независимым ученым. В сущности, это была попытка создать «собственную школу гуманитарных исследований» (как её назвал Игорь Чубаров) европейского уровня, и эта попытка удалась. Габричевский и Шпет были одними из инициаторов создания Академии.
 В 1921 г. Габричевский вместе с Василием Кандинским обсуждали основы синтеза искусства и эстетики, на разработанном ими методологическом основании открылось Физико-психологическое отделение ГАХН. Шпет встал во главе Философского отделения в 1922 г. (и возглавлял его до 1924 г.) Он был также вице-президентом Академии. Президентом стал Петр Семенович Коган (1872-1932). Он симпатизировал марксизму, но это совершенно не определяло его личности. Прежде всего, он оставался ученым, историком литературы, автором учебников, по которым учились ещё долго в советские времена. Человек он был, по всей видимости, деликатный. В октябре 1924 г. хоронили Брюсова, и перед зданием ГАХН устроили траурное собрание. Об этом рассказывает в письме Волошину Габричевский: «Когда перед Академией худнаук происходила очередная „лития“ и едва Коган успел закончить свою речь, из толпы, стоявшей на улице (а он говорил с балкона), раздался вопль: „А что Вы говорили о Брюсове 15 лет тому назад!?“ Это был Б.Н., которого тотчас подхватили верные руки и увлекли». Можно догадаться, что Б. Н. – это Борис Николаевич Бугаев, Андрей Белый (тоже учившийся в гимназии Поливанова). Да, действительно, Коган с марксистских позиций критиковал М. О. Гершензона, который был тоже сотрудником ГАХН. А вот какой эпизод передает Вадим Шершеневич:
В 1921 г. Габричевский вместе с Василием Кандинским обсуждали основы синтеза искусства и эстетики, на разработанном ими методологическом основании открылось Физико-психологическое отделение ГАХН. Шпет встал во главе Философского отделения в 1922 г. (и возглавлял его до 1924 г.) Он был также вице-президентом Академии. Президентом стал Петр Семенович Коган (1872-1932). Он симпатизировал марксизму, но это совершенно не определяло его личности. Прежде всего, он оставался ученым, историком литературы, автором учебников, по которым учились ещё долго в советские времена. Человек он был, по всей видимости, деликатный. В октябре 1924 г. хоронили Брюсова, и перед зданием ГАХН устроили траурное собрание. Об этом рассказывает в письме Волошину Габричевский: «Когда перед Академией худнаук происходила очередная „лития“ и едва Коган успел закончить свою речь, из толпы, стоявшей на улице (а он говорил с балкона), раздался вопль: „А что Вы говорили о Брюсове 15 лет тому назад!?“ Это был Б.Н., которого тотчас подхватили верные руки и увлекли». Можно догадаться, что Б. Н. – это Борис Николаевич Бугаев, Андрей Белый (тоже учившийся в гимназии Поливанова). Да, действительно, Коган с марксистских позиций критиковал М. О. Гершензона, который был тоже сотрудником ГАХН. А вот какой эпизод передает Вадим Шершеневич:
«Я помню Арбат. Быстро бежит, шевеля своими тараканьими усами, литературовед П. С. Коган. Его останавливает седой человек и говорит два слова:
– Умер Блок!
И сухой Коган вдруг ломается пополам, из рук его выпадает сумка для академического пайка, и профессор оседает на руки встречного, как будто рушится карточный домик, и начинает плакать, как ребенок».
Важно, что во главе ГАХН, его отделений и секций стояли не чиновники, не партийные функционеры, а ученые с основательным образованием, прошедшие еще и европейские университеты. Обычная деятельность сотрудников ГАХН заключалась в подготовке докладов и их обсуждении; это были далеко не формальные обсуждения, а яркие и захватывающие дискуссии. Протоколы ученых заседаний Академии, хранящиеся сейчас в архиве (РГАЛИ) и лишь частично напечатанные, – драгоценные памятники живой работы мысли.
Рядом со Шпетом в Философском отделении работали такие люди, как А. С. Ахманов, А. А. Сидоров, и сам Габричевский (в 1925-27 – председатель отделения), А. А. Губер, В. П. Зубов, Б. В. Горнунг, Н. И. Жинкин, А. Г. Цирес, П. С. Попов. Разумеется, я назвала не всех. Из наших героев, в Литературной секции состояли Ярхо, Петровский, Лямин. Между различными подразделениями Академии не было непроходимых границ, и ученые принимали участие в деятельности всей Академии в соответствии со своими интересами.
 Я назвала сейчас тех сотрудников ГАХН, которые общались и вне стен Академии, были единомышленниками, приятелями, ходили друг к другу в гости. Посмотрим, где кто жил в 1920-е годы. Ярхо в первой половине 1920-х годов жил на Тверском бульваре, д. 7, кв. 10. Ещё в начале века дом называли «Романовкой». Дом на углу с Малой Бронной. (Главный дом с флигелями – Доходный дом М. С. Романова с магазинами (2-я пол. XVIII в. – нач. XIX в.; 1870-е – 1890-е гг.; гражданский инженер Н. Г. Фалеев, архитекторы В. П. Загорский, Н. Д. Струков; перестроен из особняка Голицына по проекту Матвея Казакова). Жил там Ярхо в очень стесненных условиях. В одной квартире с матерью, братом, а также единокровным братом Аркадием, и какое-то время еще и с отцом (что зафиксировано в адресных книгах Москвы), который давно разошелся с Розалией Осиповной; Исаак Леонтьевич, отец, умер в 1924-м или 1925-м году.
Я назвала сейчас тех сотрудников ГАХН, которые общались и вне стен Академии, были единомышленниками, приятелями, ходили друг к другу в гости. Посмотрим, где кто жил в 1920-е годы. Ярхо в первой половине 1920-х годов жил на Тверском бульваре, д. 7, кв. 10. Ещё в начале века дом называли «Романовкой». Дом на углу с Малой Бронной. (Главный дом с флигелями – Доходный дом М. С. Романова с магазинами (2-я пол. XVIII в. – нач. XIX в.; 1870-е – 1890-е гг.; гражданский инженер Н. Г. Фалеев, архитекторы В. П. Загорский, Н. Д. Струков; перестроен из особняка Голицына по проекту Матвея Казакова). Жил там Ярхо в очень стесненных условиях. В одной квартире с матерью, братом, а также единокровным братом Аркадием, и какое-то время еще и с отцом (что зафиксировано в адресных книгах Москвы), который давно разошелся с Розалией Осиповной; Исаак Леонтьевич, отец, умер в 1924-м или 1925-м году.
Вот как Ярхо пишет Волошину, после долгой болезни: «Когда я встал, квартира моя оказалась настолько урѣзанной, что я стал чувствовать себя на улицѣ лучше, чѣм дома. Тогда-то я и изобрѣл вышеупомянутый „прекратительный” [по Лескову] образ жизни, который заключается в том, чтобы не бывать дома и спать как можно меньше. Тогда ходишь на службу, как во снѣ; сидишь в научных засѣданiях, и мозг работает сам по себѣ, точно в безвоздушном пространствѣ; люди кажутся не настоящими; идешь и не чувствуешь пола под ногами» (декабрь 1925 года).
В 1928 г. Ярхо удается переехать вместе с братом Григорием и матерью в кооперативную квартиру по адресу: Садовая-Кудринская, д. 21, кв. 42 (и это его последний адрес).
Габричевский в 1920 г. женится на Наталье Алексеевне Северцовой и селится в их квартире при Зооологическом музее, где жил профессор зоологии Алексей Николаевич Северцов. Это был большой гостеприимный дом.
 Петровский так и остается на Грановского, а Шпет с женой, Натальей Константиновной Гучковой, поселился на Долгоруковской ул., дом 17. Это трехэтажный дом в стиле модерн, построенный архитектором Мясниковым; затем, с 1928 года – в кооперативной квартире в Брюсовом переулке, дом 17. Недавно там была установлена мемориальная табличка. Дом проектировал Щусев. М. К. Поливанов писал в «Очерке биографии Шпета»: «В большой квартире Шпета на пятом этаже в столовой была внутренняя лестница, спустившись по которой на пол-этажа, он попадал в свой пятидесятиметровый кабинет с тремя окнами на разные стороны, с камином, с основательно и просторно расположенными стеллажами его огромной библиотеки и с отдельным выходом на лестницу».
Петровский так и остается на Грановского, а Шпет с женой, Натальей Константиновной Гучковой, поселился на Долгоруковской ул., дом 17. Это трехэтажный дом в стиле модерн, построенный архитектором Мясниковым; затем, с 1928 года – в кооперативной квартире в Брюсовом переулке, дом 17. Недавно там была установлена мемориальная табличка. Дом проектировал Щусев. М. К. Поливанов писал в «Очерке биографии Шпета»: «В большой квартире Шпета на пятом этаже в столовой была внутренняя лестница, спустившись по которой на пол-этажа, он попадал в свой пятидесятиметровый кабинет с тремя окнами на разные стороны, с камином, с основательно и просторно расположенными стеллажами его огромной библиотеки и с отдельным выходом на лестницу».
Собирались у Ляминых, в Савёловском переулке. В книжке М. О. Чудаковой «Жизнеописание Михаила Булгакова» можно прочесть, что из себя представляла эта комната: «У Ляминых – в комнате, где был большой удивительно красивый камин, и в холодную московскую зиму, когда в квартирах топили плохо и было всегда холодно, именно к Ляминым собирались для литературных чтений, да и для других событий. Набиралось до тридцати гостей, батареи грели, в комнате с очень высоким потолком было всегда тепло, уютно. Стояла стильная мебель».
Чудакова также приводит слова Шервинского: «Стол обычно держали у Ляминых. Почему? Во-первых, Лямин был умный и блестящий человек сам, затем, во-вторых, у него была обаятельная жена, и затем, в-третьих, они были богаты, что было немаловажно! Лямин получил воспитание у адвоката Горенштейна – он и сохранил ему наследство (Лямин был сирота)».
Собирались у Шервинских. Сергей Васильевич Шервинский, филолог-классик, поэт и переводчик, был сотрудником ГАХН. Отец его, Василий Димитриевич Шервинский, был эндокринолог и терапевт, профессор медицины, и был в почете и у новой власти. Ему был оставлен едва ли не специальным постановлением особняк в Троицком, потом и сейчас в Померанцевом переулке, дом 8 (Троицкий он был по церкви Троицы. Сейчас этот дом не сохранился). Там жило семейство Шервинских: Василий Димитриевич, его жена, С. В. Шервинский, его первая жена Мария Сергеевна, затем вторая жена Елена Владимировна (урождённая Гасевич). Шервинские сдавали квартиры в своем особняке.
Вот что пишет Чудакова: «Это был дом известного всей Москве, лечившего еще Тургенева, профессора-медика Василия Дмитриевича Шервинского; этот собственный дом профессора был закреплен за ним в 1918 году пожизненно, и он сдавал квартиры <…> детскому писателю В. Н. Долгорукову (Владимирову), потомку князей Долгоруких. Жил здесь и писатель Александр Николаевич Тихонов, и Андрей Андреевич Арендт с женой, врач, потомок лейб-медика Арендта, бывшего при Пушкине в дни смертельной болезни поэта». С Арендтами был дружен Булгаков. Здесь жил и Владимир Эмильевич Мориц, филолог и тоже сотрудник ГАХН. Он попал на страницы «Собачьего сердца» Булгакова: « – Клянусь, профессор, – бормотала дама, дрожащими пальцами расстегивая какие-то кнопки на поясе, – этот Мориц… <…> Это моя последняя страсть!»
 Чудакова приводит и какие-то «анонимные мемуары автора, хорошо знающего эту среду»: «реплики „дамы“ в „Собачьем сердце“ <…> „связаны с тем, что очаровательная Александра Сергеевна Лямина, первая супруга H. H. Лямина, в свое время совершенно потеряла голову от любви к В. Э. Морицу, оставила мужа и ушла к Морицу. Владимир Эмильевич, живший с женой и дочерью в том же районе, на Остоженке 7, расторг свое первое супружество, a H. H. Лямин в 1922 году женился на Н. А. Ушаковой. Михаил Афанасьевич приехал в Москву уже после всех этих волнующих событий, но разговоры не утихали, Мориц прослыл соблазнителем-сердцеедом“. Не знаю, кто этот анонимный мемуарист.
Чудакова приводит и какие-то «анонимные мемуары автора, хорошо знающего эту среду»: «реплики „дамы“ в „Собачьем сердце“ <…> „связаны с тем, что очаровательная Александра Сергеевна Лямина, первая супруга H. H. Лямина, в свое время совершенно потеряла голову от любви к В. Э. Морицу, оставила мужа и ушла к Морицу. Владимир Эмильевич, живший с женой и дочерью в том же районе, на Остоженке 7, расторг свое первое супружество, a H. H. Лямин в 1922 году женился на Н. А. Ушаковой. Михаил Афанасьевич приехал в Москву уже после всех этих волнующих событий, но разговоры не утихали, Мориц прослыл соблазнителем-сердцеедом“. Не знаю, кто этот анонимный мемуарист.
Вернемся к дому Шервинских. Бывало, что у них встречали Новый год. Так, и Ярхо и Габричевские были у Шервинских в канун Нового 1926 года, по поводу чего Габричевский писал Волошину: «Встреча была очень удачной, у Шервинских, а потому не без оттенка некоторой домовитой чинности». Следующий, 1927 год, тоже встречали у Шервинских. К этому празднику Волошин заранее прислал Габричевскому свое новое, ставшее знаменитым стихотворение «Дом поэта». Волошин писал Габричевскому: «Прилагаю еще стихотворение „ДОМ ПОЭТА“, и так как оно посвящается всем гостям Коктебеля, то, пожалуйста, передай его по назначению (каждому). Мне бы очень хотелось, чтобы оно было прочитано при встрече Нового года у Шервинских, если дойдет вовремя. Для печати оно не предполагается». Так и было сделано.
Здесь, в этих складках моря и земли,
Людских культур не просыхала плесень –
Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы – Россия – не пришли.
За полтораста лет – с Екатерины –
Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды.
<…>
Мои ж уста давно замкнуты… Пусть!
Почетней быть твердимым наизусть
И списываться тайно и украдкой,
При жизни быть не книгой, а тетрадкой.
И ты, и я – мы все имели честь
«Мир посетить в минуты роковые»
И стать грустней и зорче, чем мы есть.
Ярхо писал Волошину, что и 1929-й год он встречал у Шервинских; были также Петровские, Остроумовы: Лев Евгеньевич Остроумов (1892–1955), литератор, сотрудник ГАХН, и его жена Валентина Павловна (1888–1962). Остроумовы жили в том же Померанцевом переулке, д. 5, кв.2.
Всех наших героев, за исключением Шпета, дополнительно и очень сильно, страстно даже объединял Волошин и его дом в Коктебеле. Габричевский там оказался в первый раз в 1924 г. и полюбил на всю жизнь. Бывал чуть ли не каждое лето, в 1947 году сам купил дом в Коктебеле; 3 сентября 1968 г. он там умер и там же и похоронен; рядом с могилой матери Волошина, легендарной «Пра». Вслед за Габричевским и во многом благодаря ему в Коктебеле в последующие годы оказались все гахновцы его круга: и Ярхо, и Петровские, и Остроумовы, и Шервинские. Шпет к Волошину не ездил; очевидно, ему была чужда слишком вольная атмосфера этого дома. Зато там бывали гахновцы, близкие Шпету: Н. И. Жинкин, А. А. Сидоров. У Волошиных дом был фантастически гостеприимным, в нем царил дух свободы. Там можно было в творческой непринужденной атмосфере отдохнуть душой от московского, советского безумия.
У Волошина бывал и Булгаков, который тоже сблизился с этим «кружком пречистенцев», как его назвала М. О. Чудакова. В 1924 г. он поселился с Любовь Евгеньевной Белозерской в Обуховом (Чистом) пер., д. 9 (этот дом не сохранился), с июня 1926 г. (или с 1925?) он живет в Малом Левшинском, 4 кв. 1 (тоже не сохранился, там всё снесено). Надо себе это представить: Обухов и Малый Левшинский – параллельные переулки, они выходят на Пречистенку. Дом 4 по Малому Левшинскому – совсем недалеко от Пречистенки, справа, если идти от Пречистенки, а слева на Малый Левшинском выходит флигель и торцевая часть здания ГАХН. Во флигеле была квартира Бориса Валентиновича Шапошникова, которого знал и Булгаков. Он дружил с Ляминым и Павлом Сергеевичем Поповым. Биолога Алексея Николаевича Северцова, тестя Габричевского, он знал еще в Киеве, как преподавателя (когда учился на врача). Он бывал в квартире Северцовых и в Москве, в Зоологическом музее на Б. Никитской, и эта самая квартира превратилась в квартиру профессора Персикова из повести «Роковые яйца». Об этом Остоженко-Пречистенском хронотопе замечательно пишет Л. Е. Белозерская:
«Прелесть нашего жилья состояла в том, что все друзья жили в том же районе. Стоило перебежать улицу, пройти по параллельному переулку – и вот мы у Ляминых. Еще ближе – в Мансуровском переулке – Сережа Топленинов, обаятельный и компанейский человек, на все руки мастер, гитарист и знаток старинных романсов. В Померанцевом переулке – Морицы; в нашем Малом Левшинском – Владимир Николаевич Долгоруков (Владимиров), наш придворный поэт Вэ Дэ…».
 Наталья Алексеевна Северцова-Габричевская вспоминала о своем обществе, куда входили поначалу также Фальк, Кандинский, Петровские и др. гахновцы: «Они приходили к нам, велись умные разговоры, споры, выясняли, кому что делать, что читать». Приходил философ Г. Г. Шпет, «чем его сильнее прижимали в споре, тем лицо его становилось более одухотворенным, по-кошачьи хищным, он отвечал так, что все начинали смеяться и ничего не могли ответить, а он был в восторге победителя»; «Сюда входили все новые и новые люди, которые питались разумом друг друга, часто совершенно противоречивые и непримиримые; вот они-то в спорах и выясняли каждый свое. По вечерам ходили в гости, пили водку, ходили по арбатским подвалам пить пиво, ели мало, веселились много и никто не роптал на жизнь. Делали свое дело, получали гроши и через две недели сидели без копейки до получки» (я цитирую неопубликованные воспоминания Северцовой, которые приводит в своей книге о Булгакове Чудакова).
Наталья Алексеевна Северцова-Габричевская вспоминала о своем обществе, куда входили поначалу также Фальк, Кандинский, Петровские и др. гахновцы: «Они приходили к нам, велись умные разговоры, споры, выясняли, кому что делать, что читать». Приходил философ Г. Г. Шпет, «чем его сильнее прижимали в споре, тем лицо его становилось более одухотворенным, по-кошачьи хищным, он отвечал так, что все начинали смеяться и ничего не могли ответить, а он был в восторге победителя»; «Сюда входили все новые и новые люди, которые питались разумом друг друга, часто совершенно противоречивые и непримиримые; вот они-то в спорах и выясняли каждый свое. По вечерам ходили в гости, пили водку, ходили по арбатским подвалам пить пиво, ели мало, веселились много и никто не роптал на жизнь. Делали свое дело, получали гроши и через две недели сидели без копейки до получки» (я цитирую неопубликованные воспоминания Северцовой, которые приводит в своей книге о Булгакове Чудакова).
Веселиться в этом кругу действительно любили. С. В. Шервинский рассказывал Чудаковой: «Вы не знаете, сколько сил, энергии отнимало безделье. Так и говорили: „Да так – время убивали“. Теперь нам гораздо ближе слова, что время убивает нас, не правда ли? Да, убивать время… Это была целая наука…». Из этого свидетельства не нужно делать вывод о том, что наши герои бездельничали. Они успели сделать довольно много за свою недолгую и трагическую жизнь. Ярхо прекрасно знал, что такое тайм-менеджмент, был человеком высокой самоорганизации. Но в свободное время любил и пиры, и гостей, и всякую театрализацию. (Вообще театр все любили, мне кажется). Ярхо был остроумным человеком, видимо, блистал в обществе. Сохранились воспоминания о его шутках. «Когда ездил в Сербию, то, вернувшись, объявил:
И вот в страну, где серп и молот,
Я возвратился, серб и молод!
Были у него и более рискованные остроты: «Нет, с электрификацией ничего не выйдет – на каждую лампочку Ильича найдется выключатель Виссарионыча!»
Когда встречали 1928-й год у братьев Петровских (на улице Грановского, дом 2), где собралась вся гахновская компания, он произнес тост:
Кому с тоской в груди
Мы шепчем десять лет:
«Уйди-уйди-уйди», *
Пусть в нынешнем году
Нам прокричит в ответ:
«Уйду-уйду-уйду!».
(по книге М. О. Чудаковой «Жизнеописание Михаила Булгакова»)
Тут нужен комментарий, были такие детские игрушки, свистульки, под названием «уйди-уйди». Надувались, отпускались, издавали характерный звук.
Как бы не так. В 1928 г. Ярхо, Габричевский и Петровский были уволены из РАНИОНа. Ярхо и Петровский там были действительными членами Института языка и литературы, а Габричевский – действительный член Института археологии и искусствознания. Находился этот РАНИОН на Волхонке. Ярхо работал там в стенах родной гимназии (где когда-то учились А. Г. Цирес, Эренбург и Бухарин), как и Петровский – в стенах гимназии Поливанова.
Атмосфера сгущалась. В 1928 году начались проработочные кампании в прессе против ГАХН, в 1929 г. уже произошла внутренняя реорганизация Академии. Бюрократическая процедура под названием «чистка» – длительный процесс, который занял примерно всю вторую половину 1930 г. В резолюции комиссии по чистке (1930) говорилось, что Шпет концентрировал вокруг себя формалистов, идеалистов, реакционеров и даже контрреволюционеров «типа Лосева, Шапошникова, Никольского, Морица», что он «подчинил себе финансы», что при нем установилось кумовство, рвачество, – одним словом, превратил ГАХН в «крепкую цитадель идеализма». С тех пор ему было запрещено занимать руководящие должности. ГАХН очень существенно меняет свою деятельность в 1929-м году, официально она перестала существовать в 1931-м, фактически уничтожается.
 Такой резолюции, в принципе, было достаточно для ареста и обвинения, но тогда из наших героев арестовали одного Габричевского: 28 марта 1930 г., освобожден 29 апреля под подписку о невыезде. Кроме него, однако, были арестованы брат Михаила Александровича, Федор Александрович Петровский (ссылка на три года), Борис Валентинович Шапошников, Сергей Сергеевич Топленинов, Владимир Николаевич Долгоруков, Анастасия Васильевна Петрово-Соловово (1930, высылка на три года; в 1937 г. она станет женой Льва Владимировича Горнунга).
Такой резолюции, в принципе, было достаточно для ареста и обвинения, но тогда из наших героев арестовали одного Габричевского: 28 марта 1930 г., освобожден 29 апреля под подписку о невыезде. Кроме него, однако, были арестованы брат Михаила Александровича, Федор Александрович Петровский (ссылка на три года), Борис Валентинович Шапошников, Сергей Сергеевич Топленинов, Владимир Николаевич Долгоруков, Анастасия Васильевна Петрово-Соловово (1930, высылка на три года; в 1937 г. она станет женой Льва Владимировича Горнунга).
Начало 1930-х годов. Трудная жизнь. Поиск службы, заработков. Преподавание и переводы. Отметим те места службы и занятия, которые потом были вменены в вину нашим героям на следствии. Ярхо преподавал немецкий язык и немецкую стилистику на различных курсах, а также в Московском институте новых языков (теперь – МГЛУ). Габричевский вместе с Шервинским были редакторами первого тома Юбилейного собрания сочинений Гете; Габричевский был также редактором второго тома; М. А. Петровский, Ярхо редактировали переводы. Это был грандиозный проект, к участию в котором Габричевский привлек крупнейших филологов, поэтов и переводчиков. Стоит назвать только М. Кузмина и Вячеслава Иванова. Многие сочинения Гете были переведены заново, что-то – вообще впервые прозвучало по-русски.
Далее. Все наши герои сотрудничали с издательством Academia. В Москве она располагалась сначала на Кузнецком мосту, затем – в Б. Вузовский пер., д. 1 (уже в 1934-1935 гг.) (сейчас Б. Трехсвятительский). Дом Морозовой, известный дом. Важно сейчас отметить, что Ярхо там редактировал переводы с немецкого, помимо того, что был сам переводчиком, автором изданий (Иммерман, Мюнхгаузен; Песнь о Роланде; Сага о Вольсунгах). Шпет переводил Диккенса, Байрона. У Петровского в Academia вышли «Повелитель блох» Гофмана и «Манон Леско» Прево.
Они были сотрудниками редколлегии Большого немецко-русского словаря под редакцией Елизаветы Александровны Мейер (1894-1935). В 1934 г. вышел только один первый том (из двух). На титуле сказано, что в редакционной работе принимали участие, в числе прочих: Габричевский, Лямин, Петровский, Усов, А. Г. Челпанов, Шпет и Ярхо.
Издала словарь «Советская энциклопедия», адрес редакции – Остоженка, 1, первый дом слева от Пречистенский ворот. Челпанов, сын философа, руководил Германской группой в этом словарно-энциклопедическом издательстве. Каждый из членов редколлегии отвечал за лексику по какой-то определенной теме, составлял соответствующий словник, картотеку. За этими редакционными заданиями они приходили прямо домой к Елизавете Александровне Мейер (Старосадский пер., 7 кв. 11 – в 1930 г.). Отец ее, Александр Мейер, был лютеранским епископом, председателем Высшего Церковного совета.
В начале 1935 г. начались аресты по делу «О немецко-фашистской контрреволюционной организации на территории СССР». Дальше я буду пользоваться сведениями из дела ЦА ФСБ, Р-49424, тома 8 и 10. Всего был арестован 141 человек, одного потом отпустили. Мейер была арестована одной из первых. В Москве прошла серия арестов 2 февраля (в том числе был арестован Д. C. Усов), затем серия арестов 14/15 марта, Габричевский был арестован 20 апреля. В Ленинграде шли аресты по другому графику. Арестовывали также людей в Саратове, Ярославле и в Крыму (в Симферополе). Легенда у следствия была такой: в СССР действует фашистская организация, состоящая из различных ячеек на местах. Эта организация создана «ПО ПРЯМОМУ ЗАДАНИЮ СОТРУДНИКОВ ГЕРМАНСКОГО ПОСОЛЬСТВА В МОСКВЕ» (ЦА ФСБ, Р-49424, т. 8, л. 7); она связана с «закордонными фашистскими центрами», которые ее снабжают деньгами, и в которые стекается шпионская информация. В целом, люди обвинялись в пропаганде фашизма и германской интервенции, в антисоветской пропаганде, в шпионаже, а также в пропаганде террора «против руководства советской власти и коммунистической партии» (из обвинительного заключения; ЦА ФСБ, Р-49424, т. 8, л. 5).
Большинство арестованных были филологи, лингвисты, чьей специальностью был немецкий язык: преподаватели вузов, переводчики, составители словарей, редакторы. Так, за решеткой оказалась вся редакция Большого немецко-русского словаря (1934). Поэтому это дело неофициально называют также «Делом немцев-словарников». Есть версия, что многие имена потенциальных арестованных следствие взяло из записной книжки Мейер, точнее, из ведомости об оплате редакторской работы по Словарю. Мейер была также профессором кафедры немецкого языка МИНЯ. Значит, нужно было арестовать (может быть, по сведениям из отдела кадров) и других преподавателей той же кафедры. Заодно – тех, кто преподавал немецкий язык в Ленинграде, кто сохранял немецкий язык и культуру в местах традиционного расселения немцев в Поволжье и в Крыму.
Мейер сделали организатором нескольких «ячеек» организации. Наши ученые-гахновцы оказались в «ячейке русских фашистов, состоящей из научных работников, привлеченных МЕЙЕР Е. к работе в „Большом немецко-русском словаре“ и проводивших под ее руководством фашистскую работу» (ЦА ФСБ, Р-49424, т. 8, л. 15).
Процитирую показания Петровского: «Наша национал-фашистская группа была связана с фаш. группой, созданной МЕЙЕР.
В состав национал-фашистской группы, участником которой я являлся, входили: ШПЕТ, Густав Густавович, ГАБРИЧЕВСКИЙ, Александр Георгиевич, и ЯРХО, Борис Исаакович»
Аналогичные показания дал и ГАБРИЧЕВСКИЙ А.Г.:
«Я, ГАБРИЧЕВСКИЙ, являлся участником национал-фаш. группы, в состав которой, кроме меня, входили: ШПЕТ, Густав Густавович, ПЕТРОВСКИЙ, Мих. Александрович, ЯРХО, Борис Исаакович и УСОВ, Дмитрий Сергеевич» (Показания ГАБРИЧЕВСКОГО А.Г. от 23/IV-35 г.).
«ШПЕТ Г.Г. и ЯРХО Б.И. также сознались в том, что являлись участниками контр-революционной группы» (ЦА ФСБ, Р-49424, т. 8, л.15-16).
Да, действительно, в протоколах допросов Шпета и Ярхо тоже написано от их имени, об их участии в «антисоветской», «контрреволюционной» группе в ГАХН. Ярхо называл в числе членов этой группы: Петровского, Габричевского, Шервинского, и самого себя (22 марта); потом добавил ряд лиц: Лямин, Стрелков (27 марта), потом сказал, что к группе примыкали: Долгоруков, Гудзий, Усов, Челпанов, Чулков (поэт) (27 марта). (ЦА ФСБ, Р-49424, т. 10, л. 167 об., 176).
В протоколе допроса Шпета от 21 апреля 1935 г. сказано: «я – ШПЕТ, Петровский Михаил Александрович, Габричевский Александр Георгиевич и Ярхо Борис Исаакович собирались на квартире у Габричевского, где нами высказывались враждебные советской власти взгляды. Признаю также и то, что эта группа лиц могла считать меня своим руководителем, но я отрицаю существование группы контр-революционного характера потому, что во-первых у нас не было никакой программы действий и во-вторых – наши встречи на квартирах не имели заранее определенных, контр-революционных целей. Я отрицаю, что я являлся руководителем контр-революционного характера группы потому, что никаких программных или тактических установок я никому и никогда не давал. Но эта группа лиц могла меня считать руководителем потому что я для них являлся авторитетом». Далее следователь сообщил Шпету о показаниях Ярхо и Петровского о к-р. группе, и ответ Шпета на это «изобличение» зафиксирован следующим образом: «Да, я не могу отрицать, что группа в составе: Габричевского Ал-дра Георг., Петр. Мих. Ал., Ярхо Бориса Ис. – представляющих собой буржуазную интеллигенцию, враждебно встретившую Октябрьскую революцию, – являлась контрреволюционной» (ЦА ФСБ, Р-49424, т. 10, л.77 об.-78).
Мне кажется, вот эти показания о группе, которые мы читаем в протоколах всех четырех гахновцев, и были теми главными показаниями, которые и должно было из них выбить или им приписать следствие. Информацию о самой деятельности получить не составляло особого труда. Собственно, научные и околонаучные занятия гахновцев заранее были интерпретированы как антисоветские, как враждебные. Об этом можно было прочесть и в газетах 1929 г., в критических отзывах, а также в постановлениях по чистке. Следователи спрашивали всех «обвиняемых» об их работе в ГАХН, о разговорах со знакомыми, о характере работы в редакции словаря Мейер. Рано или поздно от каждого из ученых они получали такие ответы, которые можно было либо счесть свидетельством «антисоветской пропаганды», либо переформулировать специально для протоколов так, чтобы обвинительному заключению было на что опираться, чтобы было, что подсудимым инкриминировать. Тот мир свободного общения и научного творчества, который я описывала в первой части лекции, на Лубянке был перевернут с ног на голову, был выкручен каким-то дьявольским образом. Знакомые, друзья и коллеги превратились в членов подпольной контрреволюционной организации, руководитель Академии, главный редактор словаря стали организаторами фашистской и шпионской деятельности, диалектологические экспедиции – это шпионаж, контакты с иностранными учеными – передача секретной информации, визит иностранца и передача книги – это вербовка.
Протокол допроса – специфический документ, документ юридического характера, который должен содержать информацию достаточную для обвинения. Он лишь отчасти отражает то, что на самом деле говорили арестованные; он содержит часть исторических, биографических фактов, но к ним тоже нужно относиться с осторожностью, проверять; протокол – это не стенограмма, они сочиняются, составляются следователем или группой следователей как связный текст, текст, имеющий логику дознания, значит, в действительности данные показания должны были быть притянуты к этой логике. Таким образом, в протоколе допросов необходимо различать «легендарную» часть (с ее фальсификацией, юридической логикой, стилистикой) и фактическую часть.
Все четверо ученых поначалу ведут себя на допросах одинаково. То есть они никого не «оговаривают», на все опасные или прямо обвиняющие вопросы отвечают либо «нет», либо «не помню», либо «не знаю», не сообщают ничего такого, что нужно следствию и как будто заранее продуманной программе обвинения. Но постепенно, кто-то раньше, кто-то позже, они признают свое участие в контрреволюционной организации, называют других участников, сообщают о своей антисоветской деятельности.
Поведение Шпета на следствии отличалось, на мой взгляд, от поведения остальных наших героев. Его стали допрашивать несколько позже, чем остальных. Точнее, сначала допросили сразу после ареста, а потом была пауза. Вообще у Шпета, Петровского и у Габричевского был один и тот же следователь, а у Ярхо – другой. Нужно сказать именно о Шпете, что следствию нужно было выбить из него признание, что он был руководителем контрреволюционной организации в ГАХН. Но он никак не давался, он всё время это отрицает. Мы не можем себе представить, что было в кабинете следствия, какому нажиму он подвергался. Вроде бы тогда ещё не было ужасных избиений, пыток. Но психологическое давление было, были ночные допросы, лишение сна – всё это уже было. Тем не менее, Шпет всё отрицал, отрицал показания других лиц.
Был важный юридический приём – если кто-то из подельников сообщал что-то о тебе, это называлось «изобличение». То есть, например, «своей вины не признал, но изобличается показаниями такого-то и такого-то». Если бы Шпет не сказал, что он руководитель, он всё равно был бы осуждён по показаниям других. Когда Шпету это предъявляли, он всё равно говорил, что я «отрицаю эти показания, я не согласен с тем, что обо мне говорят». Наконец, всё-таки существует такой протокол, где он всё это признаёт, но в особой форме. Из него вытягивают показания, что это группа контрреволюционная, это записывают в протоколе. А затем он говорит, что «да, возможно, я был руководителем этой группы, хотя сам я того не осознавал». И вот эта формулировка закрепилась. Думаю, он вёл себя как философ, как логик, как феноменолог, который всё время созерцает собственное сознание. И в тюрьме он говорит, что «не сознавал» (и это была правда, его реальная философия).
В чем выражалась эта контрреволюционная деятельность? Всё, что сообщают наши герои – это одно и то же, как будто это написано по одному шаблону, с небольшими изменениями. Фактически это всё одно и то же. Различались взгляды (платформа) и деятельность – во время ГАХН и после ГАХН.
Взгляды – все говорят, что отрицательно относились к советской власти, интеллигенция подвергается гонениям, некоторые говорят про террор в стране, и не только против интеллигенции. Петровский, например, замечательно говорил (впрочем, мы не можем прямо сказать «говорил» – это то, что записано в протоколе). Написано: «власть держится благодаря беспримерному жесточайшему террору, в основном против интеллигенции».
Какова деятельность? У всех в показаниях написано, что это группа захватила в свои руки ГАХН и превратила, таким образом, ГАХН в опорный пункт антисоветской интеллигенции. Все говорят, что в ГАХН боролись с марксистским влиянием. Потом говорят о том, что группа не распалась, а продолжала действовать. В чём заключалась деятельность? В том, что они собирались и обсуждали в антисоветском духе мероприятия советской власти.
Поскольку показания совпадают в формулировках, можно сказать, что это именно то, что сочинил следователь и вставил в протоколы. А что в действительности они говорили – мы не знаем об этом. Это всё одинаковые казённые формулировки, они базируются на чём-то, но на чём они базируются – нам неизвестно.
И вот, наконец, словарь – тоже контрреволюционная фашистская деятельность. Но и здесь – в чём заключалась «контра» в издании словаря? – всё очень шаблонизировано. Все говорят, что словарь «насыщен фашистской терминологией, стирающей понятия о классах и классовой борьбе». «Мы составили словарь так, что он может быть оценен положительно и принят в обращение только в современной, фашистской Германии».
Мы и это должны, значит, отнести к легенде, к тому, что сочинено следствием.
Некоторые детали следствия отражают какие-то факты. Например, явно шла речь о национализме Петровского. В чём это выражалось? Он сожалел об утрате исторических памятников: сносе Сухаревой башни, Китайгородской стены. Доказательство его национализма – это книга Н. С. Трубецкого «Проблема русского самопознания», которая была конфискована у Петровского при обыске и аресте, эта книга была ему послана самим Трубецким. Действительно, Трубецкой был ещё гимназическим приятелем Петровского. И вот из Петровского выудили признание, что одна из статей в книге, «Об истинном и ложном национализме» призывает «к активной борьбе с интернационализмом, к борьбе за организацию самобытной национальной культуры. При чем, в этом отношении особая роль возлагается на русскую интеллигенцию» (Петровский). Трубецкой, как князь, эмигрант и евразиец, очевидно, был врагом советской власти. И вот когда следствие выяснило, что Петровский был с Трубецким знаком, они его стали допрашивать очень пристрастно.
Когда допрашивали Ярхо, речь шла о коллективизации. Зафиксирован его ответ, он признавался: «коллективизация в нашем представлении это и есть искоренение русской крестьянской самобытности» (Ярхо; (ЦА ФСБ, Р-49424, т. 10, л.177).
Дальше следовала часть о взглядах Мейер. От всех требовали признания в том, что Мейер была фашисткой и что взгляды её были фашистские. Рано или поздно арестованные сообщали, что у Мейер были контрреволюционные фашистские взгляды.
Кроме того, протоколы содержат очень ценные биографические сведения о каждом из этих учёных.
Известно, чем всё это закончилось. Самый суровый, страшный приговор был вынесен Мейер, Челпанову и Альтгаузену (который был юрисконсультом лютеранского церковного совета). Они были расстреляны.
Следующий приговор по степени тяжести – 5 лет лагерей. Такой приговор был вынесен Д. С. Усову. И он, несчастный, весь этот срок оттрубил, подорвал своё здоровье в лагерях. Потом переехал к жене в Киргизию, и умер там в 1943-м году от болезни сердца.
Следующий по тяжести приговор – 3 года лагерей. Такой приговор получил Ярхо, но этот приговор ему был заменён на ссылку в Омск. Там он провёл 3 года (Омск, кстати, родной город отца Шервинского, насколько я знаю). Потом был эвакуирован, оказался в городе Сарапул, Удмуртской ССР, и там он умер в 1942-м году от туберкулёза. Сарапульские краеведы установили памятный знак на доме, где он жил. Там есть даже улица Ярхо теперь. Недавно вышла статья в газете «Удмуртская правда» про Ярхо.
Шпет был сослан на 5 лет в Енисейск, затем переведён в Томск. Там было придумано новое дело, чтобы расстрелять как можно больше людей. Там он был расстрелян 16 ноября 1937 года.
Петровский попал изначально в Томск, в ссылку на 5 лет, и был расстрелян по тому же второму делу, что и Шпет. Немножко раньше – 10 ноября 1937 года.
А Габричевскому был вынесен очень мягкий приговор. Ему запретили жить в режимных пунктах. Он жил в Кашире. В 1936 вернулся в Москву, преподавал в МАРХИ и Архитектурной академии. 14 ноября 1941 г. арестован вместе с Г. Г. Нейгаузом и В. Г. Сахновским, пережил тяжелую форму дистрофии в тюрьме. В 1942 – приговорен к 5 годам ссылки в г. Каменск-Уральский Свердловской области. В январе 1943 переехал в Свердловск, жил в одной комнате с Нейгаузом. Преподавал там в МГУ, который был в эвакуации. В 1944 его досрочно вернули из ссылки. В 1948 в рамках кампании по борьбе с космополитизмом – уволен из МАРХИ и Академии архитектуры. Преподавал, переводил. В 1968 умер в Коктебеле.
Лямин, о котором сегодня тоже шла речь, – арестован в 1936, приговорен к ссылке на три года, потом снова арестован в 1941 г. По одним сведениям, его расстреляли тогда же в 1941-м году, по другим – он умер в тюрьме.
Дискуссия
Татьяна Феликсовна Нешумова: У меня есть вопросы. Вы сказали, что один человек был отпущен? Что это был за человек? Это не Габричевский?
Марина Акимова: Нет, это был какой-то истопник, он случайно попался.
Ольга Сергеевна Северцева: Это мне рассказывал человек, который писал по поводу Габричевского и по поводу всей этой истории. Подлинную историю, полковник ФСБ. Когда я этим всем занималась, он мне фотографии подарил. Некоторые допросы – он даже мне сделал ксерокопию. А потом он сделался старостой в церкви, меня это совсем поразило. Он очень много и комментировал, и рассказывал, очень доброжелательно относился. У меня только ещё один комментарий к докладу – мне кажется, что вы выдали мою маму замуж за моего деда.
Татьяна Феликсовна Нешумова: Правильно ли я понимаю, что Мейер была арестована в феврале, как и Усов?
Марина Акимова: Я не знаю точной даты. 2 февраля она уже точно была арестована. Может быть, и несколько раньше – я не видела никаких документов, к сожалению.
Татьяна Феликсовна Нешумова: Меня очень волнует поведение моего героя. Он тоже был арестован в феврале. Называл ли он имена людей? Или, как вы говорили, аресты шли по словарным ведомостям финансовым? Как вам кажется?
Марина Акимова: Видимо, как мне кажется (точно я не знаю, как всё это было устроено на Лубянке). Мне кажется, у них была какая-то своя программа проведения арестов. У них был «Словарь», где очень много людей было перечислено, эти ведомости, были разные отделы кадров институтов, немецких кафедр и прочее. Есть ситуации – Ярхо называет разных лиц, но они не были арестованы. Как, например, Шервинский и Долгоруков, и Стрелков (он по другому делу сел, позже). У них была какая-то своя программа. Я не видела протоколов допросов Усова. Те, кто были арестованы 2-го февраля, попали в другую ячейку. Там были, отдельные ячейки. У него была ячейка, связанная со словарём, но другая – не та, что связана с делом ГАХНовцев. Однако я видела еще целый том обвинительного заключения, показания Усова там тоже цитируются, но те, которые нужны. В какой-то момент он признал, что занимался контрреволюционной деятельностью, с создателями словаря. Это есть. Но мы всё равно не можем сказать, что люди выдавали друг друга. Они уже все были арестованы.
Татьяна Феликсовна Нешумова: А допросы Челпанова вам приходилось читать? Потому что они ведь были с Усовым в одной ячейке. Столь суровый приговор по отношению к Челпанову, на фоне того, что интеллектуальными лидерами были признаны другие люди – это связано с его большой ролью в подготовке словаря? Или с какими-то признательными показаниями?
Ольга Сергеевна Северцева: Дело в том, что у меня есть допрос Челпанова, который мне передала его сестра, которая потом жила во Франции. Челпанов там очень резко отзывается о советской власти. Активно и агрессивно. Мейеровские я не видела.
Там ещё профессора были университетские, у меня есть список. Есть такой мартиролог, не знаю как назвать – «список погибших профессоров с 1917-го по 1923-й», и там погибает от разных причин: от голода, от старости и от арестов 60% профессуры. Поэтому когда говорят, что кто-то кончает университет после 1920-го года – они кончают совершенно другой университет. Там абсолютно нету прежней профессуры. Это только ученики учеников прежней профессуры преподают в ИФЛИ.
Татьяна Феликсовна Нешумова: Я хотела бы сделать ещё замечание. Эти люди не были арестованы, но также стали жертвами этого дела. Это родители арестованных. Мать Усова умерла летом 1935-го года, года не прошло, как сын оказался в тюрьме. Отцу Челпанова, по-моему до его смерти не говорили, какой приговор вынесен по делу. Он пережил сына на 3 месяца, но о расстреле ему никто не сказал. Здесь невозможно устанавливать причинно-следственные связи, но мне кажется это должно прозвучать: в декабре 1934-го года был убит Киров. Это одно из первых показательных дел, которое возникает в ответ на это историческое событие. Хотя мы, естественно, не знаем, что здесь является ответом.
Марина Акимова: Да, спасибо. Об этом нужно помнить. Шпет, например, соотносил эти факты. После убийства Кирова он сказал: «Теперь начнутся аресты». Но это было уже не первое дело. В 33-м было уже «дело славистов», было «Академическое дело» 1929-1930 гг. Были громкие дела – дело Промпартии ещё немного раньше.
Почему такой суровый приговор Челпанову? Потому что это была «фашистская организация, работавшая по заданию немецкого посольства». Мейер была действительно связана с посольством, отец её был епископ. Придумали, что она была шпионкой, передавала Фасмеру, составителю этимологического словаря, шпионскую информацию. Они придумали, что она была организатором не одной ячейки, а многих. Хотя это всё были одни и те же люди, гахновцы. Ячеек там было несколько, 4 или 5, и всё это она «организовала». А Александр Георгиевич Челпанов служил ещё в энциклопедии и был заведующим германской редакцией. Это тоже было немаловажно. Тоже такой «шпион». Логика такая – кто ближе к немцам, тот больше виновен. Видимо, так.
Елена Владимировна Пастернак: Дело в том, что сестра Челпанова, Наташа Челпанова, ученица ВХУТЕМАСа у Кончаловского, вышла замуж за французского атташе, Бриса Парена, который был в 20-х годах здесь в Москве. Её дочь, уже в наше время прибыв в Москву, получила доступ к делу Челпанова. Смотрела все его вопросы и ответы. И она просто плакала, сотрудники ей очень сочувствовали. Она рассказывала об этом нам, мы с ней были знакомы. С Кончаловскими она продолжала очень дружить. Она рассказывала в солженицынском центре, у неё был большой доклад. Удивительные вещи. В обвинении по немецкому словарю было перечисление, довольно большое, просто последовательности слов (сейчас их не помню). Например, после «Красная Армия» стояла «кража» – и вот такая последовательность ставилась им в вину, как доказательство их шпионской и фашистской деятельности. Просто последовательность слов.
Ольга Сергеевна Северцева: Григорий Ярхо обращается к В. Д. Шервинскому, когда Борис уже сослан в ИТЛ, в лагерь. Шервинский выдаёт от себя, от своего института очень подробную справку о состоянии здоровья Ярхо. И благодаря этой справке удаётся его перевести из лагеря в ссылку. Шервинский не испугался это сделать.
ГАХН образовался из ИНХУКа – Института Художественной Культуры, 1921-й год. Они все плавно переходят, начинается создание ГАХНа.
Что-то ещё… Московский Университет, историко-филологический факультет уничтожается уже в декабре 1917-го года – ещё до философского парохода – это очень длинная история, как филологов, историков разъединяют. Это надо сидеть читать, это целая научная работа такая. Вся эта культура университета – это безумно интересная вещь. Оказывается, об этом не написано ничего, как о совокупности. Написано о таком-то, о таком-то. Почти все знаменитые вообще – но то, что они объединялись, создавали общее мышление. Филологи, учёные, потрясающие совершенно.
[1] В. И. Мильдон, Человек русского Ренессанса // Александр Георгиевич Габричевский: Биография и культура: документы, письма, воспоминания. – Москва: Росспэн 2011, [сост. О. С. Северцева, вст. статья, очерки к разделам В. И. Мильдон], 30.