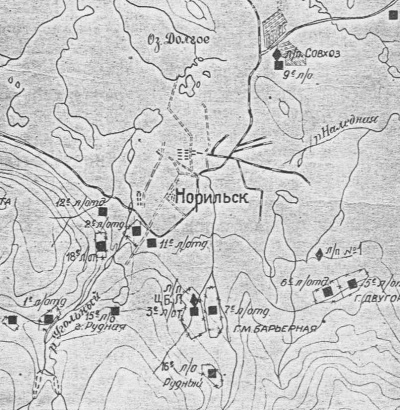Быт, определяющий сознание
Международное общество «Мемориал», и Красноярский «Мемориал» в том числе, вплотную занялся новым направлением в истории – историей повседневности. Это история, которая говорит не о великих деяниях, а обыкновенной жизни обыкновенных людей. Мы опрашиваем людей сами, подключаем школьников. Истории, которые нам рассказывают – поразительны. Вот, например: бабушке девяносто лет, пережила и голод 33-го, и войну, и лагерь, и спецпоселение и всё, что было потом. О чём с ней ни заговоришь, разговор сводится к еде. Всё помнит – сколько где пайка была, где чего удалось надыбать поесть, как женщины выносили ворованное зерно во влагалище и т. п. Это, кстати, очень характерно: с едой в СССР было плохо даже в «золотой брежневский век», ну разве что с голода уже не пухли.
Эти рассказы дают то, что ни в каких документах не найдёшь. Задумывались ли вы о том, например, как женщины в лагере ухаживали за своими волосами или справлялись с менструациями? Менструации у многих просто прекращались, организм переходил из режима размножения в режим выживания. Об этом говорят многие люди независимо друг от друга, в том числе Ефросинья Керсновская.
Волосы для женщины – не просто волосы, это элемент самоощущения (особенно хорошие, красивые волосы). Женщина с неухоженными волосами перестаёт ощущать себя женщиной. Но металлические расчёски в лагере были запрещены, костяные быстро ломались, а чем волосы расчёсывать? С длинными волосами в лагере были мучения (ни помыть, ни причесать). Некоторые, как уже упомянутая Рау, просто стриглись «под ноль», все остальные стриглись довольно коротко, а расчёсывались самодельными расческами, сделанными из расщепленных тонких дощечек.
Да и «по эту сторону колючки» люди рассказывают много интересного. Знаете ли вы, например, каким образом солдаты сушили шинель? Или спасались от неизбежной воды на дне окопа (это ведь яма, в которую вода, по определению, стекает)? Где брали спецодежду депортированные немцы Поволжья, которых отправили в Красноярский край на лесоповал?
А если отойти от экстремальных тем войны и репрессий – на чём жарили картошку граждане СССР в семидесятые годы? Где они брали пелёнки для родившихся детей? Как покупали арбузы или капусту? И что такое рыбный беляш? Всё это – очень важные детали, они дают для понимания того времени гораздо больше, чем документы.
В отличие от школьников и студентов, с которыми мы ходим на опросы, я и сам многое из того, что они рассказывают, помню – и комментирую. Я родился на следующий год после смерти Сталина, неплохо помню хрущёвские времена и очень хорошо – брежневские.
В какой-то момент я осознал себя не только интервьюером, но и интервьюируемым: почему бы мне не написать историю моей повседневности?
Здесь надо сделать несколько важных замечаний.
Первое. Если кто-то (или его родственники) были номенклатурными работниками, работали в торговле или «на оборонке», имели «блат» или банально приворовывали на родном предприятии – у них эта история повседневности была существенно другой. Наша же семья никакого блата не имела. Нигде. Ни спецпайков, ни льготных путёвок, ни распределителей, ни даже знакомой продавщицы в магазине. Но это была жизнь большинства, жизнь обыкновенного и никаким боком не привилегированного советского человека.
Второе. Быт столичного жителя и жителя провинции отличался разительно. Хотя и в столицах (Москве, Киеве, Минске и т. д.) люди жаловались на очереди и дефицит, но этот дефицит по сравнению с провинциальным казался изобилием. Детство я провёл в таёжных посёлках (дальше некуда), а взрослую жизнь – в Красноярске, который упорно не пускали в «миллионники», потому что тогда его пришлось бы перевести с обычной на повышенную категорию снабжения. Не на столичную, но повышенную всё-таки.
И третье. Многие в СССР страдали от невозможности достать модные и качественные вещи – кроссовки, дублёнки и т. п. Я от этого не страдал. Потребности мои анекдотически малы, ещё с детства – весьма небогатого, если не сказать бедного. Но даже когда возможности возросли на порядок с конца восьмидесятых – потребности практически не увеличились. Я не понимаю, зачем мне автомобиль, и до сих пор езжу на автобусе. В одежде не то что не моден, но даже и неряшлив. Первая мебель, которая появилась у нас после свадьбы – стеллаж, сколоченный из плохо струганных досок, и тридцать три года моя библиотека на нём стояла. Мои любимые философы – Руссо, Толстой, Эпиктет, а особенно – Генри Д. Торо. Мои нравственные и философские искания тоже в значительной степени были связаны с потребностями. Инстинктивно я чувствовал (а эти философы подтверждали), что свобода, к которой я так стремился, в первую очередь есть свобода от лишних потребностей. Даже моё освобождение от вбитого в школе и университете марксизма происходило через стоицизм, через сравнение подходов Маркса и Торо (разумеется, в пользу последнего).
Так вот. Даже и мои предельно скромные потребности советская власть удовлетворить не могла. Такое простое блюдо как рожки, обжаренные в масле, уже требовало дефицитнейшего сливочного масла (о рожках – отдельный рассказ).
Моя повседневная история по большей части смешна, но и грустна одновременно. Ну да, вот так мы жили ПО ЭТУ сторону прилавка. Я всего лишь вспомню, как оно было. А выводы каждый сделает в меру своей испорченности.
Некоторые говорят, что в СССР мы как сыр в масле катались. Ну ладно, с сыра с маслом и начнём.