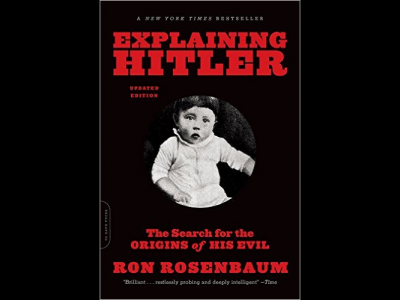Можно ли доверять свидетелю?
22 апреля «Международный Мемориал», Германский исторический институт и Фонд Фрица Тиссена (Fritz-Thyssen-Stiftung) провели круглый стол «История, память и управление эмоциями: Акторы, институты и средства коммуникаций в определении сложного прошлого Германии и России». Выступить с сообщениями пригласили германских специалистов по исторической памяти и формированию исторических экспозиций Йорга Ганценмюллера (университет Фридриха Шиллера, Йена), Андреаса Энгверта (мемориал «Берлин-Хоеншёнхаузен»), Оливера фон Врохема (мемориал «Концлагерь Нойенгамме»), Олега Аронсона (Институт Философии РАН), редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей. Вела встречу Ирина Щербакова («Международный Мемориал»).
Видеозапись круглого стола:
Ирина Щербакова:
| Ирина Щербакова – историк, руководитель просветительских программ Международного общества «Мемориал» |
В последние месяцы и недели мы были свидетелями того, какую роль могут играть прошлое, мифы и клише, связанные с прошлым, как это быстро начинает воздействовать на людей – с такой быстротой, какую даже трудно было себе представить. Думаю, очень хорошо, что сегодняшний круглый стол проходит с нашими немецкими гостями, потому что мы очень часто апеллируем именно к немецкому опыту. Это было и с самого начала 1990-х, и по мере того, как мы пытались обустраивать наше культурное пространство, пространство нашей памяти. Немецкий опыт, безусловно, был для нас очень важен. Сейчас я предоставлю слово участникам круглого стола для коротких выступлений. Давайте начнём с Андреаса Энгверта.
Андреас Энгверт:
| Андреас Энгверт – научный сотрудник и куратор выставок мемориала «Берлин-Хоеншёнхаузен»: |
Уважаемые дамы и господа, прежде всего, спасибо за приглашение, я очень рад, что могу сегодня вечером с вами поговорить. Для начала хотел бы сказать несколько слов о себе. Я родился в 1968 году недалеко от Бонна в тогдашней Западной Германии, то есть у меня и у моей семьи непосредственного опыта жизни при диктатуре нет. Вот уже пять лет я являюсь научным сотрудником мемориала «Берлин-Хоеншёнхаузен», посвящённого памяти жертв коммунистической диктатуры на востоке Германии с 1945-го по 1986 год. Позвольте мне сказать вам 3-4 коротких фразы о различных исторических слоях, которые мы видим на этом месте.
После Второй мировой войны НКВД, советские органы, создали там специальный лагерь № 3 для 16 тысяч заключённых. В 1947 году там возник центральный следственный изолятор МГБ ГДР по Восточной Германии, а в 1951 году туда въехала восточногерманская Штази, и эта тюрьма расширялась и перестраивалась в последующие десятилетия. На момент падения коммунистической диктатуры в Хоеншёнхаузене сидело около 40 тысяч заключённых.

Посещение таких мемориалов связано с определённым эмоциональным переживанием. Если, когда вы оказываетесь там, где люди страдали, а в худшем случае теряли жизнь, ваши эмоции остаются ровными, наверное, у вас какие-то проблемы с эмоциональной восприимчивостью. История, если хотите, аура, такого места совершенно особая, многих людей она трогает лично. Они сочувствуют тем, кто страдал в этих стенах. Я думаю, что эмоциональность выставки в этом конкретном смысле слова, очень важная мотивация для тех, кто к нам приходит.
Сейчас в Германии в сочетании исторического, политического образования и эмоций видят негативный привкус. Бывает, что люди не могут справиться с собственными чувствами – когда работаешь со свидетелями, с современниками тех или иных событий, сталкиваешься с этим часто. И многие считают это негативным, неправильным. Но это не до конца верно. За эмоциями стоят исторические факты. Когда сотрудники мемориала готовили выставку, они с ответственностью подходили к этим эмоциям. Так, эмоции, например, нельзя использовать для того чтобы навязать посетителям определённую точку зрения.
Как мне кажется, и это мой личный опыт, нашим школьникам нужно сказать, что эмоциональность открывает двери, она может стать поводом для подробного изучения причин диктатуры. Иногда это приводит к тому, что люди вступают в общественные организации, начинают сами выступать за демократию, за принципы правового государства.
Описание страданий вызывает эмпатию. И меня это подводит к следующему тезису – в конце концов, люди начнут спрашивать: а как это вообще стало возможным, кто несёт за всё это ответственность?
Ирина Щербакова:
Наверное, кто-то из присутствующих был в мемориальном комплексе «Хоеншёнхаузен». Он стал известен и у нас, и в Германии, благодаря успеху фильма «Жизнь других». В России же это тема совершенно не разработанная: у нас очень мало мест, где можно посмотреть топографию террора, и уж совсем нет музейных комплексов, подобных «Хоеншёнхаузен». Когда там ходишь по экспозиции, конечно, возникает очень много вопросов: как показывать виновных и как показывать жертв, как вообще показывать мемориальные места и те места, которые должны вызвать рефлексию у посетителя? Кстати, споры возникают и между группами жертв, в Германии это очень остро чувствуется, потому что после 1989 года на поверхность вышла совсем новая группа жертв сталинизма, о чём и шла речь в рассказе о тюрьме Хоеншёнхаузен. Вокруг гитлеровских концентрационных лагерей в Германии была уже разработанная мемориальная традиция. Кроме того, был прецедент Бухенвальда, когда один и тот же объект стал местом памяти и о национал-социализме, и о преступлениях коммунистической системы (после войны Бухенвальд превратился в спецлагерь НКВД).
Как соотнести в одном пространстве две конкурирующие памяти? Эти вопросы в Германии очень дискуссионны. Мне кажется очень важным процесс обновления культурной памяти о национал-социализме, разворачивающийся в Германии в последнее двадцатилетие, когда стали искать новые способы разговора, в том числе с новым поколением, о вещах, ставших хрестоматийными. Теперь я хотела бы предоставить слово Оливеру фон Врохему, представляющему здесь комплекс «Нойенгамме».
Оливер фон Врохем:
| Оливер фон Врохем – историк, руководитель научного центра и лектория мемориала «Концлагерь Нойенгамме» |
Спасибо большое за приглашение, я впервые приехал в Москву и, кажется, ещё не уезжал так далеко в восточном направлении, так что для меня это совершенно особенная поездка. Я хотел бы коротко представиться, рассказать о нашем мемориале, и попытаться ответить на вопрос, как можно сегодня презентовать прошлое, ибо у нас оно представлено двойственно, учитывая изменения, произошедшие с 1989 года. Я изучал историю, защитил кандидатскую диссертацию по Второй мировой войне, точнее, по преступлениям, совершённым в ходе войны. В частности, я тогда занимался Великой Отечественной войной и преступлениями вермахта на Украине и юге России: на Кавказе, в Крыму. Я исследовал, кто принимал участие в преступлениях, кто стал жертвами.
В связи со своей диссертацией, я принимал участие в проекте, который, быть может, будет интересен вам – в выставке о вермахте, проходившей в Германии. Она была очень большая, на неё пришло примерно 2 млн посетителей, и она вызвала очень широкую, противоречивую общественную дискуссию, потому что разрушала привычную картину Второй мировой, бытовавшую в Германии, особенно в том, что касалось солдат, военнослужащих.
Считалось, что были преступные части и соединения – СС, полиция, гестапо, а немецкие солдаты вроде как честно выполняли приказы и сражались за родину. И этот нарратив, к которому все привыкли, мы подвергли сомнению и серьёзной критике. Люди, особенно представители старшего поколения, восприняли его очень эмоционально. Они чувствовали, что мы нападаем на их идентичность, что мы угрожаем ей, и вообще не хотели слышать никакие новые версии прошлого.
В какой-то степени это касается и преступлений национал-социализма в целом. В течение долгого времени в Западной Германии эти преступления не хотели воспринимать, говорить о них, в 19501960-е годы это не было темой общественного разговора. Лишь в следующие два десятилетия, когда подросло новое поколение, мы начали работать над этой памятью. С момента объединения страны мы ещё интенсивнее занимаемся прошлым, охватывая всё более широкие общественные слои, и сегодня картина Второй мировой войны стала ещё критичнее, чем 20 лет назад.
Я хотел бы сказать пару слов о мемориале, в котором я сейчас работаю. Он расположен на месте бывшего концлагеря, где были заключены почти 100 тысяч человек с 1938 по 1945 год. Там содержались разные группы жертв: политзаключённые, «преступники», «асоциальные элементы» – эти ярлыки навесили национал-социалисты – евреи, цыгане, гомосексуалисты. Но не только они, также там находились военнопленные, прежде всего, советские из других лагерей, люди, угнанные на принудительный труд. Из этих 100 тысяч примерно половина погибла. Мемориал «Нойенгамме» возник несмотря на ожесточённое сопротивление определённых кругов. Он был создан силами жертв лагеря, и это было направлено против интересов города и государства. В 1981 году прошла первая выставка, и с 2005 года там существует довольно крупный информационный центр. Всего у нас работает пять экспозиций, есть архив, библиотека. Штат – примерно 32 сотрудника. То, что мемориал рос очень быстро с момента создания, говорит об изменении исторической культуры в Германии. Наверное, все мемориалы, и напоминающие о преступлениях национал-социализма, и другие – в последнее время расширялись, обустраивались, некоторые только недавно возникли, и посетителей туда приходит всё больше и больше. Это касается и нашего комплекса. Конечно, у нас не так много гостей, как в Хоеншёнхаузене, примерно 100 тысяч в год, но эта цифра растёт. В основном к нам тоже приходят школьники, много посетителей из-за рубежа. Кстати, несмотря на то, что больше всего жертв приходится на Польшу и республики бывшего СССР, оттуда не так много посетителей. Наверное, это связано с тем, что ехать далеко и недёшево. В 2010 году у нас было заседание, на котором присутствовали московские коллеги, но это скорее исключение. Иногда к нам приезжают коллеги из Санкт-Петербурга, из различных объединений бывших узников или принудительных работников. В основном же к нам приезжают из Северной Европы и Германии.
Что касается темы сегодняшнего круглого стола – мне кажется, что происходят большие изменения. Очень мало непосредственных свидетелей до сих пор живы, и мы, в отличие от ГДР, вынуждены были много работать со СМИ, мы должны были обращаться к взрослым людям, постараться заинтересовать их этой тематикой. Ставятся иные акценты, много приходится работать с биографиями, которые часто становятся средством передачи эмоций. Представив судьбу отдельного человека, можно обратиться непосредственно к эмоциям публики. Мы сейчас конкретно занимаемся изучением вопроса, что этот исторический период значит для детей и внуков – как для потомков жертв, так и потомков преступников национал-социалистического режима. Дети и внуки обращаются к нам с проблемой – как им быть с таким наследием? Эти ситуации очень эмоционально окрашены, и с эмоциями мы работаем. Мы стараемся направить взгляд в настоящее.
Ирина Щербакова:
По ходу разговора возникает много вопросов. Была упомянута выставка о вермахте – очень яркий дискуссионный пример. Может быть, кто-то из вас помнит, почему она вызвала такой отклик, чуть ли не демонстрацию протеста в Мюнхене: в ней было очень много фотографий, она обращалась к эмоциям, была в большой степени провокативной. Делали её люди из поколения 1968 года с очень сильным разоблачительным зарядом, и именно поэтому она произвела такое сильное впечатление. В ней были досадные ошибки, что не удивительно при работе с таким горючим материалом. Из-за неправильной атрибуции нашими архивами фотографии жертв НКВД, обнаруженных после того, как немцы заняли несколько западноукраинских городов, были выданы за фотографии жертв нацистов. И это, конечно, ужасная ошибка. Но я была свидетельницей того, как переделанная выставка, гораздо более тщательно документированная, уже не произвела такого впечатления. Это серьёзный вопрос – что порождает дискуссию, а что нет.
Что касается вопроса о свидетелях, он тоже очень сложен. Если говорить о свидетелях концлагерей – мы с вами прекрасно знаем, что с советской стороны было очень много книг, воспоминаний, но передавали ли они настоящую атмосферу? То, о чём писали Хорхе Семпрун, Примо Леви – абсолютно обесчеловеченную атмосферу? Их книги не случайно были у нас запрещены до перестройки, и мы об этом почти ничего не знаем. Постоянно возникает вопрос о том, к каким эмоциям обращаться…
Я совсем не настроена оптимистично. Внимательно следя за немецкой дискуссией, я вижу, что многие вопросы стоят и перед немецкими коллегами, деятелями культуры, историками. Например, идёт дискуссия о роли медиа, телевидения в транслировании свидетельств о прошлом, о роли исторических сериалов. Может быть, мы об этом ещё сегодня поговорим, потому что это и для нас очень острая тема – о том, что и как подделывается под исторические источники. А в Германии совсем недавно была большая дискуссия по поводу фильма «Наши матери, наши отцы», заострившая многие вопросы. Вдруг в этом фильме обнаружились какие-то странные клише…
Почему для нас так важен и интересен опыт Германии? Потому что такие вещи постоянно становятся поводом для интенсивной общественной дискуссии, почти каждый раз подобный сюжет порождает споры. Чего у нас, к сожалению, не происходит, точнее, дискуссии проходят не так, как нам бы, может быть, хотелось. В связи с этим я с большим интересом передаю слово Йоргу Ганценмюллеру и очень надеюсь, то он какие-то вопросы в своём выступлении затронет.

Йорг Ганценмюллер:
| Йорг Ганценмюллер – историк, автор монографии по Сталинградской битве, сотрудник кафедры востоевропейской истории университета Фридриха Шиллера в Йене |
Большое спасибо за приглашение. Несколько слов о себе. Я занимаюсь как историей национал-социализма, так и историей сталинизма и вопросами преступлений этих режимов; занимался я и блокадой Ленинграда. С 2004 года я работаю в университете и активно сотрудничаю с мемориалом «Бухенвальд», находящемся около Веймара. Веймар удалён на 30 километров от Йены, и потому для меня вполне естественно сотрудничество с Фолькхардом Книгге, руководителем этого мемориала (См. его статью «Историческое воспоминание, культурная память и травматический опыт в истории» на нашем сайте – прим. УИ). Многие из вас, наверное, знают, что музей «Бухенвальд» разработал совместно с московским «Мемориалом» выставку о ГУЛАГе, которая сейчас показывается в Германии. Вместе с господином Книгге и музеем мы в последнее время занимаемся экскурсиями в мемориалах на местах преступлений против человечества. Мы анализируем музеи, посвящённые злодеяниям коммунизма в прибалтийских странах, в Польше и Румынии. Недавно мы подготовили большую экскурсию по бывшей Югославии: в Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине – где смотрели, как представлены германские преступления времён Второй мировой войны и события, сопровождавшие распад Югославии.
В ходе этой деятельности возникает множество вопросов. Как с точки зрения эмоций рассматривать массовые преступления, совершаемые государством, будь то национал-социализм или сталинизм? Хотим ли мы вызвать осознанную эмоциональную реакцию, ведущую к отторжению этих диктатур? Или мы хотим создать позитивную связь с демократией, с гражданским обществом? Насколько и каким образом мы можем делать ставку на эмоции, рассказывая об истории, в частности, об истории насилия в XX веке?
В общественном историческом дискурсе существует широкий спектр подходов. Так, традиционным способом манипуляции эмоциями является демонстрация свидетелей. Рассказы о страданиях используются с целью создания аутентичной картины, эта задача постоянно на первом месте. Считается, что именно свидетели позволяют добиться наибольшей аутентичности. Но этот способ скрывает целый ряд проблем.
Во-первых, я полагаю, что здесь есть определённое недопонимание. Каждое обращение к истории – это попытка реконструировать прошлое, однако не более, чем просто попытка. Рассказ свидетеля не является аутентичным погружением в историю, он не ближе к настоящей картине прошлого, чем другие способы презентации истории. Да, это очень важный способ. Но, в конце концов, значительная часть истории насилия рассказана преступниками, а не жертвами, историография имеет тенденцию опираться именно на рассказы преступников, хотя и рассказы жертв в архивах представлены достаточно полно.
Следующий пункт – осознанное вызывание эмоций. Посещение выставки в Хоеншёнхаузене, конечно, должно вызывать эмпатию по отношению к жертвам. Но возникает вопрос, нужно ли целенаправленно вызывать эти эмоции так, как это делается в некоторых мемориалах в Европе. Скажем, в Сребренице это очень активно демонстрируется боснийской стороной или в Музее террора в Будапеште. Эмоциализация требует от посетителей сострадания, отождествления себя с жертвами. Таким образом, создаётся определённая идентичность, скажем, национальная идентичность в той же Сребренице, где существует чёткая направленность на создание такой идентичности через память о жертвах войны, сопровождавшей распад Югославии.
Однако демократическая историческая культура, на мой взгляд, не должна создавать идентичность, она в гораздо большей степени призвана воспитывать зрелых граждан, то есть должна представлять разные истории и предлагать различные толкования.
Зрелый гражданин должен получать возможность проанализировать основы этих разных толкований, создать собственный образ истории. Это отличается от индоктринации, от того единственного взгляда на историю, который направлен на создание национальной идентичности.
Итак, на что мы должны обращать внимание, если хотим создать демократическую историческую культуру? Как может выглядеть демократическая историческая политика? Во-первых, не должно быть навязанного свыше одного толкования событий прошлого, они должны быть разными. Во-вторых, необходимо чётко понимать, что мемориалы, с одной стороны, являются местами скорби и, с другой стороны, местами исторического образования. Скорбь нельзя использовать для создания определённого исторического образа и, кроме того, важна определённая прозрачность
– то, что показывает мемориальный комплекс, должно создаваться историками и не должно иметь ореола святости, то есть должно быть вполне доступно для критики.
Память о жертвах сакрализуется, но важно не только помнить о жертвах, но и распространять знания. Память без знаний бессмысленна, и в сочувствии жертвам без знания исторических основ в общем-то мало смысла. Важно, чтобы скорбь и память о жертвах была просвещённой.
Наконец, последний пункт. Изучение массовых преступлений XX столетия должно приводить к продуктивной неуверенности, поскольку такие преступления сейчас происходят в разных точках мира или могут произойти в будущем. Потому что прошлое – это не что-то закапсулированное, что можно отодвинуть от себя и сказать, что это было когда-то, в другую эпоху, и не повторится. Прошлое непосредственно касается нас самих, потому что эти сложные вопросы массовых преступлений поднимают проблему ответственности индивидуума.
Ирина Щербакова:
Это было очень хорошее продолжение нашего разговора. Сейчас я хотела бы предоставить слово Олегу Аронсону.
Олег Аронсон:
| Олег Аронсон – культуролог, старший научный сотрудник Института философии РАН. Автор ряда монографий о современном кино, искусстве и философии. |
Я хотел бы сразу сказать, что затронутая сегодня тема помимо того, что очень важная, порождает много проблем и парадоксов. Даже в прозвучавших выступлениях часть из них налицо. И особенно эта парадоксальная ситуация связана с тем, что мы говорим сейчас, в данный момент, в России, где прямо в наше время, на наших глазах, повторяются какие-то вещи на политическом уровне, которые, казалось бы, не должны никогда повториться, и всем должны были быть очевидны хотя бы с юридической точки зрения. Но выясняется, что для подавляющего большинства людей такой очевидности не существует. И я боюсь, что для подавляющего большинства не существует очевидности массовых преступлений, о которых мы сегодня говорим.
Мы можем сколько угодно повторять, приводить факты, делать выставки, создавать музейные комплексы, но мы живём в эпоху, которую можно назвать эпохой тотальной фальсификации. Связано это с тем, что мы существуем в мире медиа и информации – не фактов, а информации. А информация – она всегда ложная. Для меня очень важно то, что сказала Ирина по поводу германской выставки. Мы всегда совершаем ошибки, это вообще часть человеческой деятельности. Человек может выставить ошибочный экспонат, ошибочную фотографию с неправильной атрибуцией и невольно попасть в этот мир медийной фальсификации.

Ситуация крайне двусмысленная, я сразу скажу, она мне кажется очень подозрительной, потому что вся эта музейная инфраструктура, какими бы благими намерениями она не была создана, включена в режим… не буду говорить «режим индустрии развлечений», это было бы слишком грубо, но всё-таки в режим действия господствующей власти. Той власти, которая сегодня даёт возможность говорить. В этом смысле любая история написана с точки зрения власти, а любой свидетель всегда не соответствует истории – это тот, кто плохо помнит, ошибается, неправильно атрибутирует, кто был в состоянии невменяемости, поэтому его речам доверять нельзя. Свидетель всегда дезавуируется. И наша задача, как мне кажется, поставить не на ту власть, которая сегодня разрешает писать историю жертв, а поставить на жертву – даже безумную.
Что это значит? Это значит забыть определённый принцип рациональности, забыть о том, что есть истина, справедливость, знание объективное и субъективное, любое. Нужно искать язык жертвы. Его не так просто найти, потому что язык это то, чем наделена власть, чем наделён сильный. У Вальтера Беньямина была в своё время идея написать историю с точки зрения жертв. Что это была бы за история, можно только догадываться, но важно, что это была бы история, написанная другими средствами. И мне кажется, что сегодня эти средства находятся не в области документации и фактов, а в области принципиально фальсифицируемых образов массовой культуры. Это всё, с чем мы можем иметь дело. Современное кино, которое поставляет клише – именно там надо искать образы, которые были бы образами общности и сопричастности, а не где-то в архиве, который никогда не дойдёт до большинства людей.
Эксперименты в этом направлении уже есть, например, фильм Клода Ланцмана «Шоа». В прошлом году вышел полупостановочный-полудокументальный фильм австрийского режиссёра Штефана Рузовицки под названием «Радикальное зло», никому не надо объяснять это понятие. Это и то, что принадлежит истории философии, идёт от Канта, и то, чем занималась Ханна Арендт. Он создал фильм про нацистских солдат и офицеров, которые расстреливают детей, опираясь не на изображения и не на фотографии (всё это вовлекает нас в сентиментальность, создаёт ложные образы, принципиально фальсифицируемые), а на речи самих преступников, которые описывали в дневниках и в письмах родным, что они делают. И мне кажется, к такого рода попыткам нужно быть внимательным, нужно искать иные способы обращения с эти материалом. Они, к сожалению, не находятся в архиве, а должны быть найдены в сфере массовой культуры.
Ирина Щербакова:
Вопросы наши, по-моему, очень заострились. Со многими вещами можно спорить, потому что, скажем, архив всё больше и больше превращается в место памяти и перестаёт быть мёртвым. Благодаря самым разным вещам, например, тому, что он выходит в интернет, виртуализируется. Это очень сильно меняет отношение к документам, роль и значение архива. Второе, что мне хочется сказать – то, о чём говорил Олег, как бы из нас кричит, потому что если бы наше общество шло нормальным путём, постепенно осознавая прошлое, путём постепенного просвещения, как это было в Германии, было бы правильно, но ведь этого не произошло. Одно наслаивалось на другое, одно вытеснение за собой вело другое, одно умолчание порождало следующее. Поэтому то, о чём говорил Олег, имеет гораздо большее отношение к нам. Свидетельства не всегда бывают легки в работе, этому нужно специально учиться, и они далеко не всегда фальшивы, просто память сложный инструмент, её надо как-то встраивать.
Андреас Энгверт:
Я сказал бы пару слов на тему свидетелей, потому что многие ораторы её затронули. У нас в Хоеншёнхаузене свидетели являются посредниками, они рассказывают о своём прямом опыте, поэтому они очень для нас важны. Хотя вы правы, действительно, каждое воспоминание, каждый взгляд в прошлое это конструкт, нечто созданное. Конечно, верно, что ни один из свидетелей не обладает правом считать, что именно его взгляд на вещи на 100 процентов корректен и правилен. Я иногда говорю, что у нас в Германии проблемы оттого, что мы «с жиру бесимся». Мы занимаемся исследованием диктатуры СЕПГ, и у нас есть возможность поговорить с огромным количеством свидетелей, их ещё очень много среди нас. В отношении преступлений национал-социализма или сталинизма такие возможности у нас отсутствуют.
Но есть и другой важный аспект в нашей германской дискуссии. В этих дебатах о культуре памяти возникает, пожалуй, даже карикатурная картина работы со свидетелями. Это то, о чём говорил господин Ганценмюллер. Есть непримиримое противоречие между свидетелями и историками – свидетели сами по себе сопротивляются историческим фактам. Иногда работа историка сводится лишь к умению холодно, нейтрально посмотреть на прошлое. Свидетели же пережили всё это сами, поэтому в их речи пафоса больше, но у них и больше права на правду, у них даже, может быть, более честный взгляд. В Хоеншёнхаузене я не мог этого наблюдать, я часто был удивлён тем, как спокойно свидетели относятся к тому, что их воспоминания исправляют историки.
Свидетели годами рассказывают одну и ту же историю, но с течением лет эта история в каком-то направлении меняется, порой она удаляется от исторических фактов.
Бывают, что свидетели рассказывают нам что-то новое или вспоминают что-то, чего они раньше не помнили. Во многих мемориалах постоянно возникают эти споры между историками и свидетелями: кто обладает преимущественным правом толковать события, рассказывать всю эту историю? Очень часто именно бывшие узники создают такие мемориалы, выступают с такой инициативой, и многие мемориалы лишь с течением лет пришли к профессиональной работе с памятью, они коррективно подходят к высказываниям свидетелей.
Задачей новой постоянной экспозиции в Хоеншёнхаузене было предложить посетителям возможность глубже познакомиться с этой темой. И там тоже у нас работают свидетели, правда, мы показываем съёмки их интервью. Они рассказывают о своём опыте, о некоторых аспектах пребывания в заключении, о быте заключённых в этой тюрьме. Если речь идёт о насилии, например, то я как автор выставки расспросил бы в первую очередь людей, которые на собственной шкуре всё испытали, и с ними мне было бы интереснее работать, а не с теми, кто получил эту информацию из вторых рук. То, что люди пережили сами, производит наибольшее впечатление. Но факты нужно документировать. Например, кто-то рассказывает, какой была тюремная еда в 1950-е годы, а кто-то потом расскажет, какой она была в 1980-е. Конечно, к 1980-м условия заключения совершенно изменились. В любом случае, речь о том, чтобы записать эти высказывания заключённых, а не выспрашивать у них: как вы смотрите на преступников? как, по-вашему, должны с ними обращаться? Нет. Свидетель должен выступать живым источником информации по определённым аспектам этой истории заключения.
Когда применяешь высказывания свидетелей в политическом образовании, обязательно встречаются те, кто очень болезненно реагируют на услышанное и говорят: «Вам, наверное, было плохо, но мне-то было очень хорошо в той стране и при том режиме, у меня было хорошее детство». Многие болезненно относятся к таким высказываниям, не всем легко провести границу.
Оливер фон Врохем:
Я бы хотел дополнить ответ на вопрос «как быть со свидетелями?». Давайте посмотрим на это ещё и в медийном контексте. Мой опыт выглядит вот как. Всё больше и больше посетителей таких мемориалов приходят к нам под впечатлением фильмов или другой массовой продукции. У них уже какие-то образы в голове есть, они видели «Наши матери, наши отцы» или, например, «Список Шиндлера», или другие подобные фильмы. Обычно у них в головах неправильные представления о том, что происходило в прошлом. И у меня всегда было впечатление, что первый шаг таков – нужно критически отнестись к уже сложившимся в голове образам, деконструировать их, разрушить, заменить их чем-то. Проблема, конечно, здесь есть, проблема со свидетелями или с использованием свидетельских высказываний. Не только молодёжь, все посетители мемориала склонны к тому, чтобы не отказываться от собственного представления о правде. И это взаимодействие между посетителями и свидетелями порой протекает сложно. Нужно ли вообще приглашать свидетелей, в каком контексте с ними работать, как протекает такой процесс образования? То, о чём говорил господин Ганценмюллер – нарратив это неоднородная ретроспектива. И ещё одна проблема, о которой я хотел бы сказать – сильные эмоции, связанные с этой историей, сильные переживания и желание идентифицировать себя с прошлым, чревато опасностью, что причины возникновения насилия порой упускаются из виду. Причины возникновения такого феномена вообще находятся за рамками этих переживаний. Неисторический взгляд на прошлое оказывается в итоге самым сильным.
Йорг Ганценмюллер:
Я также хотел сказать два-три слова о свидетелях. Это важный вопрос, что с ними делать и как подходить к их историям. На этот вопрос непросто ответить, но поговорить об это, кажется, стоит.
Вы абсолютно правы в том, что нет одного универсального прототипа свидетеля, они очень разные. Есть те, кто не столько рассказывают, сколько спрашивают, хотят узнать что-то новое, и в то, что они узнают, встраивают собственный опыт, свои переживания. Кому-то, наоборот, интересно поговорить, рассказать о собственных переживаниях, чтобы этот рассказ сохранился для потомков. Но, в то же время, есть свидетели, жертвы, впечатляюще рассказывающие о том, что им довелось пережить. И этот рассказ практически сопровождается толкованием прошлого. Этого почти невозможно избежать, ведь история всегда толкование прошлого. В общем-то, это неплохо, нет ничего плохого в том, чтобы свидетели ещё какое-то толкование предлагали.
Проблемы начинаются, когда свидетель считает себя не просто живым источником информации. Мы всё чаще и чаще сталкиваемся с тем, что люди рассказывают то, как оно должно было бы быть, потому что они это видели, пережили, и не терпят никаких возражений, никаких альтернативных мнений. С такими свидетелями связана большая проблема, с ними работать непросто.
Далее я бы хотел коротко остановиться на проблеме, которую Оливер фон Врохем упомянул – свидетели и медийное пространство, свидетели и СМИ. Те, кто смотрит немецкие документальные фильмы (впрочем, это международный феномен) знает, что свидетелей часто используют для того, чтобы подтвердить какую-то одну определённую точку зрения, как раз потому, что они свидетели, они это видели сами, переживали сами. Из длинной беседы часто монтируется совсем короткий разговор, остаются фрагменты, три фразы или вообще одна, в которой свидетель говорит: «Да, действительно было так плохо». В таком случае, конечно, свидетель не является источником, он просто подтверждает тезис, который создатели фильма высказали вначале. Это очень типичный подход – свидетелей показывают на чёрном фоне, «говорящие головы», и они говорят не как личности, они перестают быть личностями. Но хочу упомянуть и положительный пример, об этом уже говорил Олег Аронсон – фильм Ланцмана «Шоа». Людей снимали в определённом окружении, в определённой «кулисе», долго снимали, это был длинный рассказ, и Ланцман осознанно не эмоционализирует его, он отказался от музыки в фильме, потому что музыка стала бы лишь китчем. Там нет исторических кадров, нет хроники, потому что она не передаёт весь ужас. И фильм должен был называться «Место и слово», ничего больше. В 1970-е годы Ланцман побывал там, где происходил Холокост; прежде всего он посмотрел лагеря смерти Треблинку, Собибор, Освенцим, Берген-Бельзен, и это места, и слова, речь тех, кто всё пережил, кто выжил, и жертв, и преступников, и тех, кто наблюдал за всем. Без всяких комментариев, ни один историк ничего не объяснял, никто не говорил, как было на самом деле. Конечно, свидетельства различаются, каждый человек рассказывает свою историю, а зрителю предоставляется возможность составить собственную картинку, хотя и понятно, где находятся симпатии зрителей и самого Ланцмана.
Олег Аронсон:
Я хотел бы отреагировать, поскольку здесь кое-что было сказано о свидетелях. Во-первых, я полностью на стороне свидетелей. Я просто говорю о том, что любое свидетельское показание (это известно даже из юридической практики) принципиально фальсифицируемое, даже если оно правдивое. Для этого существуют специальные люди – адвокаты или обвинители, ловящие свидетелей на том, что они ошибаются. А ошибаются все люди. Фактически, мы стоим перед другим вопросом. Проблема свидетелей в том, что они единственные сегодня, кто связывает нас с тем или иным событием. И эта аффективная связь идёт через них. Как только эта связь утрачивается, событие становится исключительно историческим. А что такое исключительно историческое событие? Это событие лживое. Крупица справедливости сохраняется в аффективной связи со свидетелем, а свидетели умирают. И когда умрут свидетели, не будет Холокоста, как нет сейчас армянского геноцида. Почему его нет? Потому что остался лишь повод для интерпретаций и споров. А пока есть свидетели, можно сопротивляться этой политике «истинной истории», которую пишут победители.
На мой взгляд, самое важное, что делает Ланцман в фильме «Шоа» – он создаёт невозможную длительность разговора с зоной молчания свидетелей.
Свидетель ведь это не тот, кто рассказывает о событии, а тот, у кого нет сил о нём рассказывать, кто молчит, и кого надо заставить каким-то чудовищным насилием заговорить.
Это касается не только Холокоста. Знаете, мой дед воевал. Я слышал лично из уст Левитанского, прошедшего войну, и многих других фронтовиков, они говорят одно и то же: «Никто никогда не расскажет вам всей правды о войне. Есть вещи, о которых мы никогда говорить не будем». Мы можем только догадываться, что это за вещи. Но это стыд, который лежит под бравурной историей интерпретаций. Неслучайно Эрнст Юнгер называл археологию настоящей наукой о боли.
Вопрос не в эмоциях, а в том, как сохранить аффект свидетельства, после того, как все свидетели умерли. Аффект того, о чём нельзя говорить, и что надо предъявлять как непредставимый ужас. Потому что вся история, все интерпретации и даже эмоции работают с представлением. А аффект – это общесть в стыде. И как её добиться – есть какие-то варианты, но это очень сложная задача. Мне кажется, что если мы не ставим радикальных задач, то опять скатываемся в буржуазную сентиментальность, в эмоциональность там, где должен быть стыд и боль.
Ирина Щербакова:
Хочу сказать как историк, что надо разделить историю и память. Может быть, память побледнеет, может, она исказится, недостаточно отразится в культуре или, наоборот, превратится в мифологизированную, но есть всё-таки история, и есть её факты. И Холокост из них не вычеркнешь. Другое дело – память, и тут уж мы действительно видим, как с ней можно манипулировать, что можно делать со свидетелями. И, напротив, как может работать мощная культура воспоминаний, существующая в Германии, с большим количеством институтов и свидетелей.
Кстати, мы говорили о памяти жертв – в Германии память долгое время существовала именно как доминирующая память жертв, и в этом была большая проблема, непонятно, что там скрывалось, за этой памятью, какие невысказанные вещи. Недаром начался разговор с выставки о вермахте и о том, во что она вылилась – в то, что за этой памятью жертв политкорректно скрывалось. Много чего можно об этом сказать… В нашем разговоре мы всё время апеллируем к образам, к роли масс-медиа. И я хотела бы предоставить слово Даниилу Дондурею.
Даниил Дондурей:
| Даниил Дондурей – социолог, кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» |
Я буду одну мысль Аронсона детализировать – по поводу того, что мы живём в эпоху масс-медиа, и мы не можем этого не учитывать. Сегодня мы видим, как формируются свидетели тех исторических событий, которые происходят в последние три месяца. Эти же исторические события, как бы, по одну сторону находятся, сами по себе, а восприятие, по крайней мере, российских граждан, само по себе. И это восприятие российских граждан изготовляется, оно чрезвычайно эффективно, судя по социологическим опросам, производится. Это не только информация, как здесь говорилось, это узкое понимание медиа. Медиа производит массовые представления о происходящем.
Это делается, конечно, с помощью телевидения, поскольку 88 процентов граждан нашей страны все свои знания получают из телека. В первую очередь, это связано с сериалами. В России особенно – мы чемпионы мира по этому производству и показу, у нас примерно около четырёх тысяч часов в год, мы обогнали Китай, не говоря уже о других странах. Это ток-шоу, объём которых увеличился в последние месяцы примерно в двенадцать раз, и масса других сюжетов, встреч, глава государства, пресс-служба, новые программы и т. д. Это огромная производственная работа для того, чтобы люди потом были свидетелями не знаю чего. Чего свидетелями? Того, что они понимают таким или иным образом. Это создание второй реальности, спроецированной сценаристами, режиссёрами, продюсерами, руководителями информационных служб больших российских федеральных каналов и систем (их около семнадцати), которые работают чрезвычайно креативно, тотально, невероятно эффективно – и всё для того, чтобы люди получили безусловно превратное толкование того, что происходит. Результаты вы знаете. Ещё полгода назад, где-то в сентябре, доверяли президенту 47 процентов граждан, сейчас 70 процентов, а одобряют его деятельность 82 процента. Это гигантская работа.
Это вторая реальность, которая стала третьей, в том смысле, что люди уже не живут в той реальности, которую потом будут описывать историки, архивировать её, добывать документы и т. д. Это будет когда-то, а люди получают все контексты, все ориентиры в интерпретации происходящего именно сегодня. И потом, когда вы, историки, будете их опрашивать как свидетелей, очень интересно представить, что и о чём они будут свидетельствовать.
Серьёзнейшая проблема, о которой здесь речь не шла – о том, что на самом деле это два совершенно разных смысловых контекста, которые будут встречаться в восприятии подавляющим большинством граждан России того, в каком времени они живут и, скажем, того, в котором они коммуницируют. Например, с Холокостом, или с ГУЛАГом, или с какими-то другими вещами. Никто же в России не анализирует эти технологии (про Германию говорить не буду, не знаю). Например, такие – откуда возникла убеждённость граждан в октябре 2013 года, что жители России не европейцы? Интереснейший результат, 70 процентов граждан считали в октябре, что мы не европейцы. Я не буду толковать это. Или каким образом на первое место среди семи правителей XX века по неприятию гражданами России вышел любимец Германии Горбачёв. Горбачёв самый неправильный, отвратительный с точки зрения граждан Российской Федерации правитель XX века. Ну, например, отторгают его действия, личность, итоги правления, 64 процента опрошенных граждан России, Ельцина – 62 процента, а Сталина – 38. Лучший правитель XX века, конечно, Брежнев. Это серьёзнейшие коридоры понимания реальности, очень важные и значимые. Потом и те люди, которые участвовали, и те, которые занимались насилием, и все виды жертв попадут в гигантскую производственную машину интерпретаций, связанную с целями, ценностями, стереотипами, национальной ментальностью, нравственными ориентирами, запретами, мифами и т. д., которые работают как машины и работают очень эффективно. Например, как человек, имеющий отношение к кино, я прекрасно знаю, что современное российское кино перепрыгнуло через 1990-е годы, объявив их неправильными с точки зрения интерпретации событий. Никто этого не объявлял, это по факту. У нас нет сериалов о ГУЛАГе, последними были «Штрафбат», относящийся к теме косвенно, и «Завещание Ленина» по Шаламову. Это очень серьёзная вещь, что уже лет семь нет таких фильмов. Целый ряд оценок исторических, все те оценки, над которыми работали примерно с 1986-го по 2003 год, сейчас отменены, не действуют. Ни один телеканал не купит ваш сериал с негативным образом Сталина. Ни один подобный фильм не запустят, если это не ваши личные деньги – нет, вам никто не запретит, но просто это так дорого стоит, что вы не найдёте партнёра, имеющего какие-то интересы в нашей стране, чтоб запустить самостоятельно фильм, где Сталин будет негативным персонажем. Он может быть странным, он может быть с присутствием или отсутствием харизмы, может быть каким-то неожиданным, диким, но он никогда не будет отрицательным. Это же важно, это новости последних шести-семи лет, и они работают на огромнейшей аудитории. Сказанное касается, естественно, не только Сталина. Сталин может прийти в школу, как показано в одном из последних сериалов, и поздороваться с директором школы – евреем, тем самым спасти его. Такие дикие и странные вещи могут быть.
На недавней встрече Владимир Владимирович привёл письмо шестилетней девочки, которая спросила его, будет ли спасать нашего президента Обама (если Путин будет тонуть. – прим. УИ)? Любопытно, зал смеялся, он смеялся, всё человечество смеялось. Интересно? Интересно. Но это и значимые координаты, в которых происходит важное, история обретает не только образы, эмоции, моральные оценки. Она обретает многие свойства идентификации, которые требуются для жизни второй реальности. Здесь есть сложности, потому что такие исследования, естественно, не заказываются, они не проводятся, а тут нельзя обойтись без глубоких социальных или социально-психологических исследований. Так же, как продукт главного производства нашей страны, я имею в виду в первую очередь телевидение, вообще не имеет какой-либо аналитики. Оно выводится за пределы аналитики. Экономика не выводится, национальная безопасность не выводится, там тысячи и тысячи аналитиков на каждой кафедре, в каждом банке, в каждом вузе, в каждой корпорации. А производство, о котором я говорю, не получает рефлексии, хотя, на мой взгляд, является основным и для формирования памяти, и для формирования контекстов, и для развития экономики, и для понимания будущего, и для готовности страны встретить любые испытания – готовности быть жертвой или отказаться от этого, идти навстречу чему-нибудь, от потребительского сознания до смерти. И это очень серьёзно, очень важно.

Я хотел о конкретном. Некоторые наблюдения за тем, как показываются украинские события. Это же очень интересно! Та самая история, с которой я начинал говорить – которая происходит сегодня, и мы ещё не знаем, чем она завершится. Много делается для того, чтобы нам были представлены разные варианты развития событий. Но это ведь серьёзная работа – о чём говорить и о чём молчать. Серьёзная работа по мощнейшему эмоциональному воспламенению нации, российской, в первую очередь. О том, что показывать, какие эпизоды, каких находить людей. Я беседовал недавно в Берлине с выдающимся европейским фотографом Борисом Михайловым, и он обратил моё внимание на то, что ничего более впечатляющего, чем события в Киеве на Майдане, после 11 сентября 2001 года, на его взгляд, в телевизоры (по крайней мере, российско-украинские) не попадало. И я с ним согласился. Это действительно так, кажется, что лучшие голливудские сценаристы, операторы, мастера, показывали эти коктейли Молотова, эти покрышки, этих убиваемых «беркутовцев»… Серьёзная работа – увеличение масштаба эмоционального восприятия, связанного, естественно, с монтажом, с мощью и красочностью картинки, использованием самых разных техник, которые должны повторяться десятки раз, чтобы идентификация запоминалась, потом уже не было периода вхождения в эту «рамочку», чтобы каждый зритель страны из тех 110 млн, которые смотрят новости в течение суток, не задумывался, что, например, на Украине более двадцати областей, а показывают только три. Почему не возникает никогда сюжета с любым, кроме Царёва, кандидатом в президенты? Никогда не выступают два лидера президентской гонки этой братской страны, о жизни которой мы так переживаем. Это же очень серьёзные вещи, связанные с техникой, с эмоциями, с моральным отторжением, потому что есть много практик, которые действуют через монтаж, филологическое сопровождение кадра и вечернее закрепления в специальных ежедневных политических летучках. И никто уже не спросит, почему в летучках принимают участие одни и те же пятнадцать человек.
Ирина Щербакова:
Я хотела бы услышать, возникли ли какие-то соображения или возражения у сидящих за этим столом, чтобы сразу же на них отреагировать.
Олег Аронсон:
Я хочу коротко ответить Даниилу Борисовичу по поводу свидетелей. Вы говорите в данном случае не о свидетелях, их можно назвать разве что наблюдателями. Свидетель это тот, кто вовлечён в событие, а наблюдатель тот, для кого событие является дистантным, таким, о котором он получает информацию. В этом смысле у масс-медиа есть такой эффект – как будто они вовлекают в событие. Но когда мы здесь говорили о свидетельстве, мы имели в виду прежде всего жертву. Свидетель тот, кто пережил некое событие, о котором нет способности даже говорить на привычном языке. В этом смысле вся социология проходит мимо этих свидетелей, она поглощает их в общественном мнении так называемом, о котором вы, конечно, справедливо говорите.
И ещё я хотел сказать, что вы через социологию очень точно описываете то, что можно назвать «политическими медиа». Но помимо политического аспекта мнения есть и очень слабый этический аспект. Он не связан с моралью, мораль тоже политизированная вещь, он связан с ощущением общности, которое возникает в момент вовлечения. Это очень слабая аффективная связь различных людей, которая проявляет себя как раз тогда, когда мы имеем дело с альтернативными видами телевидения, например, с прямыми репортажами с Майдана. Такой репортаж ночью смотрят сотни тысяч человек, хотя там ничего не происходит. Что они смотрят, ведь там нет «картинки»? Но они чувствуют именно момент сопричастности в форме деполитизации той информации, о которой вы говорите совершенно справедливо, как об информации насаждаемой. И вот мне кажется, что нужно обращать внимание на то, как внутри абсолютно аполитичной среды возникают некие островки «сопротивления», или я бы назвал это этическим измерением медийности – там, где общность важнее информации, есть какой-то момент сопричастности этим свидетельствам, пусть и очень слабый.
Ирина Щербакова:
Можно объяснить эмоциональный накал, вызываемый этой темой, потому что мы сейчас переживаем момент, когда история невероятно мощно используется для попыток создания идеологии. И это, конечно, самое главное, что мы сейчас переживаем. И при этом в головах у наших людей возникает когнитивный диссонанс, потому что в них уживается и память о ГУЛАГе, и память о репрессиях, и память о том, что семьи пережили, потому что нет ни одной семьи, в которой бы этой памяти не было, стоит только внимательно покопаться. А с другой стороны – какие-то клише, мифы. И это всё в голове у одного человека, что мы сто раз на конкретных примерах видели.
Человек рассказывает свою страшную жизнь, а потом говорит, что всё-таки Сталин был великий. И то, что мы переживаем сейчас, поразительно, ведь мы не представляли себе, что это можно воспроизводить с такой силой и таким образом.
И ещё одна вещь. Говорилось тут о прекрасной картинке – но ведь во всех наших сериалах совершенно не обязательна ни хороша картинка, ни хорошая съёмка, ни хорошие актёры, это всё как будто бы и не играет роли. Оказывается, достаточно квазиисторического или вообще какого-то странного пространства, куда помещаются люди. Герои переходят из одного сериала в другой, возникли уже дежурные образы – хороший энкавэдэшник или плохой и страшный. Есть только странная кашеобразная структура, в которую люди погружались в этом телевидении. Сейчас мы переживаем момент, о чём говорил Даниил, когда эта противоречивая структура начинает выстаиваться в одном направлении и сильно привязываться в образу прошлого. Посмотрите, что с языком-то творится, мы это здесь много раз обсуждали, какие клише бытуют. Нельзя же представить, что сейчас в Германии выражение «Volksgemeinschaft», «народное единство» и враги этого «народного единства» будут употребляться серьёзным и конкретным образом. Это невозможно представить. А мы сейчас переживаем момент, когда пространство схлопнулось. Поэтому мы так нервничаем по поводу образов истории, которые пришли к нам сегодня, как будто не было пройденного страной пути и поколений. Поэтому всё, что происходит сегодня, так сильно связано в нашем сознании и с памятью тоже. И отношения с Украиной тоже ведь связаны с памятью, всё время к ней апеллируют и одна, и другая страна.
Оливер фон Врохем:
Это очень интересно. У меня ощущение, что действительно речь идёт не о прошлом, а о настоящем. Вопросы, которые мы обсуждали вначале: как обращаться с картинками истории, с образами, с прошлым – но я вижу сейчас, что наш фокус передвинулся, стал гораздо современнее, он здесь, в настоящем. И это наводит меня на мысль, которая посещала меня уже в Германии – о разделении собственных семейных воспоминаний о Третьем рейхе и общественного дискурса. И, кажется, здесь то же самое. Мы как бы исключаем из воспоминаний семьи жертв и семьи преступников, тех, кто одобрял режим, молча наблюдал за ним, шёл с ним в ногу. В течение долгого времени это всё не воспринималось и у нас относительно преступлений Третьего рейха. И имело последствия. Например, третье поколение, сегодняшние внуки тех людей, могут воспринимать Третий рейх весьма положительно. Да, они сочувствуют жертвам, конечно. Но они мало знают о преступниках, о причине возникновения насилия, о его структуре и динамике. С другой стороны, есть критический подход.
Мне кажется, здесь в России или в бывшем СССР всё наоборот относительно преступлений сталинизма. Да, конечно, есть критический взгляд на историю в семьях, и есть очень популярный общественный дискурс, общественная память, она некритична совершенно. Наверное, это связано ещё и с тем, что, в отличие от Германии массивная переработка, причём юридическая, преступлений и преступников, с присвоением им негативных коннотаций в общественном дискурсе, не состоялась в России. Не могу, конечно, до конца это оценить, но мне кажется, что многое из того, о чём мы сегодня говорим, подтверждает, что серьёзной переработки этой истории и этих преступлений здесь не было. Это не значит, что не нужно заниматься жертвами, но нужно заниматься ещё и теми, кто на это смотрел, и теми, кто это делал.
Йорг Ганценмюллер:
Я могу сразу продолжить сказанное вами. Если сравнить сегодняшние события, состояние культуры воспоминаний в России и Германии, то становятся очевидными диаметральные различия. В течение многих лет общественного дискурса или дискурса в СМИ об этом не было, потому что им управляло государство. А вместе с тем, государство занимается исторической политикой с целью создания российской национальной идеи или идентичности и каким-то образом справляется с наследием советской идентичности. Но мне кажется, что, несмотря на пример сегодняшней Германии, пусть он и положительный, достойный подражания, нужно помнить, что, во-первых, Германия прошла очень долгий путь. Так, как сейчас, у нас было не всегда. Нам понадобились десятилетия, чтобы прийти туда, где мы нынче находимся. Во-вторых, в Германии были особые предпосылки для этого – страна проиграла войну, была оккупирована, в ней находились войска других держав, и они постоянно принуждали немцев к переработке исторического наследия. И многие жертвы национал-социализма не были немцами. Немцев пострадало меньше всего, поэтому давление было ещё и снаружи, прежде всего, из США и Израиля, пока шла холодная война – именно оттуда звучали требования к немцам разобраться с этими преступлениями нацизма. В России жертвами советских массовых преступлений стало собственное население, поэтому внешнего влияния не было. И, конечно, после слома этой системы, после распада СССР не был оккупирован.
Стран, которые занимаются совершёнными в прошлом массовыми преступлениями, в принципе не очень много. Польша, Венгрия, страны Балтии, страны Восточной Европы, у которых было коммунистическое прошлое – у них ситуация тоже не такая, как в России. Там наблюдается серьёзная тенденция считать эти преступления деяниями какой-то чужой власти, они как бы переносятся вовне, и, таким образом, прекрасно всё это можно вписать в собственную национальную историю. Мы были жертвами, во всём виноваты большевики или русские, если хочется навесить национальный ярлык. Вот здесь, как мне кажется, никакой переработки прошлого тоже не происходит. По крайней мере, она не в той форме, в какой её ждёшь от демократического государства. Общество разделено, да, и в Польше, и в Венгрии оно раздроблено, особенно сейчас. В Венгрии, где мы видим очень серьёзный подъём национализма, который осознанно придерживается именно такого толкования истории, венгерской национально-исторической картины.
Совсем иная ситуация в России. Мы видим преемственность элит после 1991 года, и поэтому невозможно сказать, что здесь что-то такое натворили чужие. И поэтому над преступлениями сталинизма нужно работать с самим собой, своим собственным обществом, а это всегда больно и неприятно. И немцам было неприятно, немцы тоже не любили это делать, поэтому мы очень долго сопротивлялись этим вопросам, не хотели их себе задавать. Это было связано с собственными семьями, собственными воспоминаниями – что делали наши отцы? В России скорее уже деды и прадеды, но всё равно это очень личная история, напрямую касается семьи, а это больно. Я бы сказал, любое общество склонно к тому, чтобы избегать подобной работы, таких воспоминаний. И в России сейчас почти нет сил, а если и есть, то они очень невелики, которые могли бы принудить общество к такой работе. Однозначно эту работу начнёт не государство. Снаружи влияния ждать тоже не стоит, потому что жертвами было собственное население, и вот тут-то и проявляется противоречие. Осознание роли жертвы населением очень сильно, потому что живы семейные истории. А вот семьи преступников, думаю, не очень склонны к рефлексии.
Андреас Энгверт:
Ещё одно небольшое дополнение. Мне кажется, что исследование того, что было с преступниками, насколько оно вообще возможно, тоже очень важно. Я могу только призвать вас к тому, чтобы вы документировали как можно больше высказываний преступников. Ланцман постоянно здесь упоминался, так вот у него есть многочасовой фильм, в котором он опрашивал преступников. Это, по меньшей мере, интересно. Наверное, одни из самых интересных цитат из этого фильма – те откровения преступников, к которым мы не привыкли, потому что обычно слышим голоса жертв. Записывайте такие высказывания, берите интервью, нужно собрать все голоса преступников.
Ирина Щербакова:
Необходимо сказать ещё одну вещь, которая сейчас стала довольно очевидной в нашем разговоре. Значение памяти, рефлексии, пусть даже трудной, в том, что она проявляет способность к горю, к сопереживанию. Это каким-то образом стало особенностью неких западноевропейских ценностей – у нас даже часто можно слышать, что европейцы вечно копаются в себе, сидят эти индивидуумы и анализируют себя, теряя связь с реальностью, чувство общности (чуть ли не той самой «Volksgemeinschaft», о которой не говорится, конечно, но говорится об общности). И вот оказывается, что отрицанием европейской рефлексии, европейской философии XX века, которая сильно работала на эту рефлексию, порождается и отрицание болезненной нередко памяти. Упрёк, который часто можно слышать – да, в Германии замечательные музейные комплексы, этого никто не отрицает, но надоели эти немцы, всё время в своей вине копаются, они, наверное, на самом деле что-то скрывают под этим, под своими европейскими ценностями, а мы-то с вами знаем, что ничего хорошего в признании вины и ответственности нет, что это только ослабляет людей. И эта разными словами выраженная мысль довольно важна для понимания происходящего, потому что тут проходит рубеж. Всё время же нам пытаются говорить на самых разных уровнях, от детей в школе, где, скажем, меняются учебники в целях воспитания патриотизма – что надо гордиться, что не надо поминать всё плохое и тяжёлое. И это является частью сегодняшней жизни. В конце 1980-х у нас была иллюзия (особенно в связи с «Мемориалом»), что людей здесь объединит желание рефлексии и восстановления памяти. Но оказалось, что этого не произошло. И сегодня мы говорим об этом – почему не произошло, могло ли это вообще произойти? И всё время мы обращаемся к немецкому опыту, ставим сами для себя вопрос, можно ли из этого негатива прошлого вырастить настоящее самосознание?
Хочет ли кто-то из присутствующих что-то сказать, спросить, прокомментировать?
Гостья:
Говоря о массовых преступлениях, не нужно, в принципе, ходить далеко – Чечня, на мой взгляд, является гигантским местом массовых преступлений, о чём Анна Политковская писала, и за что её убили, о чём Елена Милашина пишет в «Новой газете», за что её жестоко избили. Массовые преступления происходят в данный момент. Германии в этом смысле крупно «повезло», поскольку, если я правильно помню, более 90 процентов российских беженцев там – из Чечни, есть они и в разных регионах самой России. Я общалась с этими людьми, они являются свидетелями массовых преступлений. Вопрос: привлекают ли немецкие историки в своей работе беженцев в качестве свидетелей? Я знаю, что «Мемориал» очень много пишет об этом в своих исследованиях, приводит примеры. А что вы скажете по этому поводу? Потому что история чеченских беженцев немцев не очень интересует, я не критикую, понимаю, что наплыв большой, не понятно, что с людьми делать, почти все отправляются обратно.
Гость:
Раньше у нас были летописцы, которые фиксировали различные события. А можно ли сейчас каким-то независимым от пропаганды и государственной идеологии институтам выступить в качестве летописцев, с учётом современной технической базы? Опять же, записывать свидетельства очевидцев. А то у нас уже столько идеологий, что мы не знаем, не помним, что было в то или иное время, история зависит о того, кто нам её преподносит.
Гость:
Ирина сказала, что у нас память о репрессиях не получила должного развития. Но ведь льготы были выделены государством, и мне кажется, это лучшая память с его стороны о жертвах репрессий. Второе. В Германии очень много мероприятий проводится, выставок, но жертвам фашизма из Советского Союза компенсации не выплачиваются. Вроде были с СССР какие-то взаиморасчёты, но к конкретным частных лицам, пострадавшим, отношение сейчас такое – ну, извините, было и было, а теперь нет закона для выплаты компенсаций.
Гость:
Если вернуться к различию памяти и истории, то очевидно, что память большинства жертв, которые имеют сейчас голос в Германии, вполне укладывается в тот исторический нарратив, который господствует в немецком обществе. Вопрос: есть ли какие-то области наиболее болезненной памяти, где жертва воспринимается в рамках этого нарратива как некое нарушение историчности, где память вступает в противоречие с этим нарративом – жертва ли это сексуального насилия на восточном фронте, или кто-то другой?
Вторая моя реплика относится к ситуации в современной России. Мне показалось, что сама постановка проблемы, что жертва не обладает правдивой памятью, несколько надуманна, потому что латентно подразумевает, что исторический нарратив может быть правдивым. Что это не вариант интерпретации, а некая правдивая модель, которая может быть изложена тем или иным языком. Мне кажется, что свидетель, возможно, как раз и является тем единственным хранителем личной памяти, на нём события оставили непосредственный след. Он живой источник, его необъективность не важна, он носитель следа истории и только он поэтому не может противостоять памяти. Отсюда вопрос: как память может в современном, прежде всего, российском обществе противостоять истории? Может ли свидетельское показание рушить те нарративы, которые впитаны с детства? Я бы даже не стал говорить о том, что телевидение транслирует некую устойчивую модель, но у каждого телезрителя, в том числе и вследствие советского образования, имеется свой бэкграунд, он не есть tabula rasa. И можно ли в листок, уже исписанный много чем, вписать эти свидетельские показания?
Ирина Щербакова:
Очень важные вопросы. Давайте попробуем на них ответить.
Йорг Ганценмюллер:
Во-первых, о преступлениях, которые происходят здесь и сейчас, например, Чечня, или убийство Анны Политковской. С моей точки зрения, именно для того мы работаем с преступлениями прошлого, чтобы понимать – они могут повториться. Не может быть подведена черта под такими событиями. Важно на этих примерах понять механизм подобных преступлений, как они происходят, какие тексты скрывают эти преступления, каким образом людей стимулируют на преступления, как выглядит ситуация с ответственностью индивида, есть ли возможность для принятия решений. Таким образом, есть возможность понять, что происходит здесь и сейчас, в Чечне или в других точках мира. Занимаясь прошлым, можно научиться чему-то и для настоящего.
Что касается того, что происходит сегодня в России и Украине. Мы сталкиваемся с государственной пропагандой. Но когда происходят массовые преступления важно продемонстрировать разные точки зрения, разные голоса – как правило, это происходит уже после совершения преступлений. А важно, чтобы это происходило как можно раньше. Но я бы не стал проводить границы между пропагандой и правдой, это всё свидетельства, рассказывающие разные истории. Если мы занимаемся прошлым, мы можем видеть разные следы, можем их собрать, но ни один из них не рассказывает нам окончательной правды в последней инстанции, и свидетели её не рассказывают, хотя являются важными источниками.
Вопрос был о компенсациях жертвам Второй мировой войны, в частности, в Восточной Европе. Здесь вы совершенно правы, в ходе холодной войны жертвам в Восточной Европе практически не уделялось внимания, в ФРГ отговаривались – мы будем это обсуждать только после того, как заключим мирный договор, а его пока нет. В ГДР утверждали – мы-то порвали с прошлым, а вот продолжателем традиции, из которой вырос фашизм, является ФРГ. Поэтому так поздно поступили компенсации лицам, угнанным на принудительные работы, с большим трудом всё это происходило, и многие компенсаций вообще не получили. Хвалёная германская политика памяти здесь имеет тёмные пятна.
Далее, поговорим о темах, которые особенно болезненно вспоминать немцам. Я бы не стал это связывать с определёнными группами жертв, есть группы, которые в меньшей степени являются предметом памяти, но особенно болезненна память о преступниках. Долгое время не обсуждалось, что всё германское общество было участником преступлений. Разбираться в этом было особенно болезненно и до сих пор процесс не завершён. Например, в вопросах реституции, возвращения ценностей музеям до сих пор идёт активное сопротивление.
Оливер фон Врохем:
Я хотел бы три пункта упомянуть. Во-первых, о массовых преступлениях современности. Кроме Чечни можно назвать Судан и целый ряд других стран, где массовые преступления совершались, и происходило это относительно недавно. На вопрос «а как к этому относится Германия?» не так легко ответить. Есть в Германии группы, которые занимаются преступлениями, скажем, в Руанде, а вот что касается Чечни – мне не известны организации, которые исследовали бы эту тему. В мемориальных комплексах этим не занимаются. Наш мемориал, например, занимается историей национал-социализма, а если бы мы занимались современными преступлениями, это бы чересчур расширило нашу сферу деятельности. Мы делаем проекты по просвещению в сфере прав человека и стараемся, таким образом, сравнивать разные преступления, смотрим, где находятся механизмы насилия.
Второй пункт – какие вопросы могут быть особенно болезненными? И здесь я более обще сказал бы: самой болезненной проблемой есть наличие преступников в собственной семье, мотивы для совершения преступлений, их механизмы. Например, фильм «Радикальное зло» показывает, что многие вещи были связаны с ситуативными факторами, значит, почти любой человек способен совершить преступление, и людям очень неприятно осознавать, что они, в принципе, тоже могли бы поучаствовать в подобных преступлениях.
Последний пункт – вопрос о свидетелях. Мне кажется, это центральный вопрос. Свидетель это важный носитель памяти, его опыт всегда нужно воспринимать серьёзно. Мы примерно полторы тысячи интервью провели со свидетелями того времени, и это даёт возможность глубоко познакомиться с опытом людей прошлого. Но это не даёт нам знания объективной реальности, хотя часто такой опыт путают с объективной реальностью.
Олег Аронсон:
Тема массовых преступлений сегодня это проблема глобальной политики, и достаточно просто задать вопрос, а был бы Милошевич преступником, если бы у Сербии была бы атомная бомба? С преступлениями в Чечне ситуация такая – Путин не враг, а партнёр мирового сообщества, увы. Поэтому про массовые преступления в Чечне все будут умалчивать. Это печальный и очень простой ответ, но я, честно говоря, не вижу, что ему противоречит.
Что касается вопроса о нейтральной экспертизе – мне кажется, это невозможно. По одной простой причине. Представьте себе ситуацию, которую описал Даниил Борисович – тотальную атаку масс-медиа на сознание граждан. Такого не было в СССР, тогда была только программа «Время» для идеологии, а теперь с утра до вечера, и по всем каналам. Конечно, это производит колоссальное впечатление. Даже люди стойкие падают. А теперь представьте, что в этой среде появляется независимая экспертиза. Даже если она независимая, она будет работать на власть. Именно в силу того, что провозглашает свою нейтральность. Здесь возможно только жёсткое противостояние, любая нейтральность лжива, она всё равно будет соприкасаться с голосом власти и в таком качестве использоваться властью. Возьмите Льва Доценко, что от его нейтральности осталось? Ничего.
Теперь что касается истории и памяти. Я не очень понимаю само это различение, для меня всегда есть политическая история, которая всегда есть история дискурса истины. Неважно, что есть какая-то полемика, разные типы интерпретаций, всё равно мы находимся в режиме действия так называемого дискурса истины, дискурса знания, дискурса факта, дискурса интерпретации. Когда же мы говорим о свидетелях, то подразумевается, что все эти инструменты не работают. Свидетеля невозможно инструментализировать. Свидетель нам сообщает о недостаточности тех средств, которые легко превращаются в идеологию, о политизированности всех тех интерпретаций истории и памяти, которые мы имеем. Свидетель это всего лишь указатель на зону нашей исторической безответственности.
Даниил Дондурей:
Я хотел бы просто обратить внимание на то, что мы здесь всё время говорим о памяти как о политике, как о преступлении, как о жертвах и свидетелях политики же. А мне кажется, что очень многое связано с чем-то большим, чем какое-то преступление, идеология, например. Я исхожу из того, что это культурные картины мира. Неслучайно, кстати, обращаю внимание немецких коллег, наш президент с осени прошлого года воспринимает культурологию как историю и историю как культуру. То есть история нагружается им и администрацией президента, и всеми теми людьми, которые готовят сейчас стратегическую программу развития культуры нашей страны (два выброса уже были, но она ещё официально не подтверждена). Всё связано с тем, что эти, более универсальные, многоуровневые, многофункциональные картины мира не тотально определяются политикой, это нечто, на мой взгляд, более широкое. Интересно наблюдать именно за этими культурными картинами мира людей – как они изготавливаются, транслируются, воспринимаются. Всё-таки, если сейчас к Сталину относятся положительно по разным данным от 49 до 57 процентов населения, то в самом начале 1990-х годов было 20-22 процента. Такое большое увеличение – это была чья-то очень специальная работа. То же самое, когда началась работа российского телевидения по поводу интерпретаций событий на Украине, я подумал, что если бы кто-то дал задание телевизору, он мог бы научить нас и работать, и уменьшать коррупцию, и меньше мошенничать, но такие задачи не ставятся.
Ирина Щербакова:
Льготы, которые получили у нас репрессированные в 1989 году, те, кто дожил, отданы по закону о монетизации регионам, и если в Москве человек может получать от 500 до 1 тысячи рублей вместе с прибавкой, то в регионах это может быть 100-200 рублей. Я уж не говорю о тех смехотворных выплатах, которые были в начале 1990-х годов. И, кстати, эти законы и льготы вообще единственное место, где у нас зафиксирована какая-то ответственность властей за прошлое. Больше этого нигде нет.
Я надеюсь, что мы наш разговор ещё продолжим. Мы увидели, что есть очень много вопросов, споров вокруг фигуры свидетеля, и нет простых ответов. Что может свидетель, чего не может свидетель? Он вообще появился там, где бессильны классическая описательная история, вышел из катастроф XX века, которые никаким образом невозможно описать. Что касается того, что им нельзя манипулировать – ещё как можно, и мы всю жизнь живём в этой манипуляции свидетелем. И совершенно не обязательно ему нужно для этого врать. А нужно только рассказать, как «на самом деле» неплохо жили в ГДР, при Брежневе, и это даже не будет враньём. А какие-то вещи будут правильные и справедливо вспомненные. Только всё зависит от того, в какой поместить контекст.
Вы верно говорите, что всё возникло не на пустом месте. Конечно, это не была tabula rasa. Мы сейчас много говорим о прошлом, и о советскости, которая живёт в нас и провоцирует происходящее. Это, конечно, так. Но мы тут не говорили о каких-то поколенческих вещах, и вообще об опыте поколений. Мне кажется, что происходят иногда более опасные вещи, и дело не в гэдээровском опыте, не в советском, он может быть какой-то основой, но есть такая вещь, как пережитый людьми прежних поколений страшный опыт насилия. На себе лично, на семьях, в той же Германии, даже если ты был на стороне тех, кто насилие осуществлял. Ужас, подействовавший на людей после этой страшной катастрофы, страшного насилия не ушёл бесследно. Слова «лишь бы не было войны» имели разный смысл, но главное – люди страшно устали, боялись, не хотели повторения насилия. Когда мы говорили о том, почему распалась наша империя в 1991 году такой малой кровью, то было понятно – людям не хотелось обращаться к опыту насилия, он был ещё живой, были его носители. И сейчас, кстати, есть люди с советским брежневским опытом, но это уже не те поколения, и в Германии это так же. Раньше вы спрашивали о вещах болезненных, о каких-то белых пятнах времён войны, о массовом насилии со стороны Красной армии, которое замалчивалось, и т. д., и жили люди, которые – не важно, признавали они это или нет – были за произошедшее ответственными или делались ответственными их детьми за то, что происходило после 1933 года. А это военные и послевоенные подростки, возможно, потерявшие отца, детство которых прошло или под бомбёжками, или в бегстве, и они не чувствуют так живо этой своей ответственности. Им хочется, чтоб говорили об их опыте. Это не такая простая вещь – вопрос, кто за что ответственный. И в музейных комплексах, кстати, такие вопросы тоже приходится решать. Скажу, что в последнее время телеэкраны в Германии заполнены нерефлексивной продукцией, как будто не было прекрасного кинематографа…
Безусловно, о всех этих проблемах надо говорить, и говорить вместе, надо издавать совместные книжки, надо обсуждать. Я не знаю, в какой мере это важно сейчас для Германии (а там идут дискуссии о современной России), но для нас чрезвычайно важно оставаться в поле европейской рефлексии. На этой оптимистической ноте я бы хотела наш сегодняшний вечер закончить. Благодарю наших гостей, надеюсь, что мы их не очень сильно напугали, потому что мы не находимся нынче в таком спокойном академическом состоянии, в каком хотелось бы пребывать. И спасибо большое Германскому историческому институту.
Материалы по теме:
- Штеффи де Ёнг. В зеркале историй. Предметы и свидетельства в музеях Холокоста и Второй Мировой войны
- Семинар «Теоретические и практические аспекты устной истории» с Лутцем Нитхаммером
- Ирина Щербакова. Память в эпоху её технической воспроизводимости.