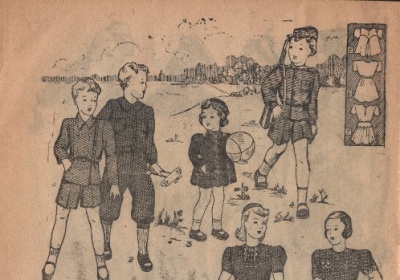Мой друг Parteigenosse. Армия: учебка и зенитная батарея
При партнёрстве с polit.ua
В армию Райнера призвали после школы, в 16 он уже её окончил и к тому времени ходил в городскую администрацию, на курсы – хотел стать чиновником.
В этой трудармии они, по идее, должны были что-то строить или рыть окопы, в таком духе – но по факту до этого не дошло, и всё ограничилось муштрой. На армию это было похоже, с той разницей, что вместо винтовок дали лопаты.
Лагерь располагался в горах. Там «каре» стояли деревянные бараки, а в центре был каменный дом с кухней и столовой. Новички прибыли туда в марте 1944-го. Тогда как раз выпало много снега, и первым делом по приезде надо было расчистить снег, чтобы дойти до бараков.
Такая деталь: по лагерю нельзя было передвигаться шагом, только бегом! А кто просто идет – тех наказывали. Даже ночью в сортир надо было бегом.
Служба состояла из строевой подготовки, с песней или молча, с лопатами, которые играли роль винтовок. А ещё, как обычно в армии, убирали плац и мыли полы в казарме, чистили сапоги, одежду, особенно пуговицы, и вместо оружия – те же лопаты. Ну, и сортиры. А еще у них там были бесконечные построения. Нашёл проверяющий в бараке пылинку – значит, заново всё мыть и перемывать.
А вот как молодые бойцы победили крыс, которых полно было в бараках. Поймали одну, облили бензином и подожгли. Остальные поняли предупреждение и ушли по-хорошему. Райнер мне пояснил: метод жестокий, но – эффективный.
Как-то им на обед выдали тухлые сосиски. Кто-то пожаловался, наивно полагая, что сейчас ему дадут свежих. Вместо это всех построили на плацу и заставили хором скандировать: сосиски свежие! (Что-то похожее было с «сосисками сраными» у Брежнева), причём орать надо было убедительно, с задором! Вот она пропаганда.
В какой-то момент бойцов из учебки перевели под Ганновер и придали зенитной батарее, там были 88-миллиметровые орудия. Это была сдвоенная батарея – обычно 4 орудия, а тут было 8. Это называлось – VI. schwere Flakbatterie 461, 6-я тяжелая зенитная батарея № 461.
С ними в батарее были русские, из военнопленных, Hilfswillige, сокращенно – Hiwi, добровольцы. А ещё им придали сколько-то 16-летних школьников и стариков.
Зенитчики вели огонь по самолетам союзников, в основном это были англичане, которые бомбили немецкие города. Иногда удавалось сбить бомбардировщик! Но какая именно батарея отличалась, их или соседняя, сказать было трудно – все же вокруг стреляли, поди разбери.
Тревогу у них объявляли, кстати, школьным звонком, от которого молодежь и не успела совсем отвыкнуть.
Была еще такая штука, которую они там называли «рождественской елкой», рассказывает Райнер:
– Это осветительные ракеты, которые запускались перед приближением бомбардировщиков – они указывали на цели. Днём вместо них применялись дымовые шашки, для того же. Цели – это жилые кварталы.
Сбить самолет было на самом деле очень и очень сложно. Сбивали мы просто чудом. Чудом! Приборы у нас были очень слабые, а самолеты летели высоко – пятьсот метров над землёй! Тогда это считалось много. К тому ж из самолетов то и дело выбрасывали полоски фольги – и тем создавали помехи нашим радарам. Поскольку попасть было непросто и случалось это редко, то мы, бывало, вели не прицельный огонь – какой смысл – а заградительный, так, очень приблизительно в сторону противника, просто чтоб отпугнуть самолеты. Лётчики там, наверху, психовали, по понятным причинам – зенитки им портили настроение, действовали на нервы. Иногда они сбрасывали бомбы просто, лишь бы сбросить. Или, не исключаю, хотели как-то отомстить нам за свой страх. Как-то они вот так провели бомбометание, то ли прицельное, то ли просто скидывали балласт, чтоб побыстрей полететь домой налегке, не садиться ж с бомбами – и она из них угодила прям в соседнюю с нами батарею, это в паре километров от нас. Накрыло их всех, никто не уцелел.
После бомбёжек нам удавалось иногда подработать – мы латали крыши, с которых посрывало черепицу.
Буквально месяц Райнер побыл рядовым. А 20 апреля 1944-го, в день рождения фюрера, ему присвоили звание формана, Vormann (одна лычка, соответствует нашему ефрейтору). Вечером по случаю праздника его ещё с несколькими отличниками боевой и политической свозили в город. Счастливчики побывали в театре. Давали, как он запомнил на всю оставшуюся жизнь, Вильяма нашего Шекспира – «Укрощение строптивой». От той поездки у Райнера осталось ощущение, что едва ли в Ганновере остался хоть один целый нетронутый дом.
Vormann – это начальник небольшой, так себе. Впрочем, зарплата выросла вдвое: с 25 пфеннигов в день аж до 50. Кроме того, как форман он уже был начальником караула! Караульным давали боевые карабины со штыками и настоящие каски, всё как у взрослых. А еще была такая привилегия – в служебное время к нему следовало обращаться на «Вы», в отличие от рядового. Вообще же в зенитной артиллерии не было особенной муштры, как в других войсках, атмосфера была весьма вольная.
Впрочем, обычного армейского идиотизма хватало. К примеру, на складе было полно носков, но солдатам их носить запрещали, положено было наматывать портянки. А ещё зимой часовым ни разу не выдали соломенных таких как бы валенок, которые обувались поверх ботинок. Эти все нетронутые матценности достались англичанам. О чём Райнер, как ни странно, до сих пор вспоминает с досадой. Как и адский холод. У многих были обморожены пальцы на ногах. И ступни были разодраны деревянными гвоздями, которыми подбивались подошвы. После он – в плену уже – познакомился с ботинками союзников и с удивлением осознал, что те намного удобней и к тому ж вдвое легче. Ну а чё, солдат перетопчется как-нибудь! Дело знакомое. Они обувались в голландские деревянные башмаки, официально запрещённые, но уж к этому не придирались – которые держали тепло всё ж получше, чем солдатские сапоги. Ещё от холода спасались маленькими химическими грелками, их присылали из дому полевой почтой. Добавил туда воды, сунул в карман – вот и тепло.
В те дни Райнер сдружился с сослуживцем по имени Герхард. Они с ним много говорили о довоенной жизни. Чаще – о том, чему учились после школы. Один посвящал другого во всякие тонкости кредитов, векселей и облигаций, а другой растолковывал другу всё, что помнил про муниципальные дела. А ещё они говорили про устройство Вселенной и – надо же – про Бога.
Предыдущие части см. в блоге Игоря Свинаренко на «Уроках истории».