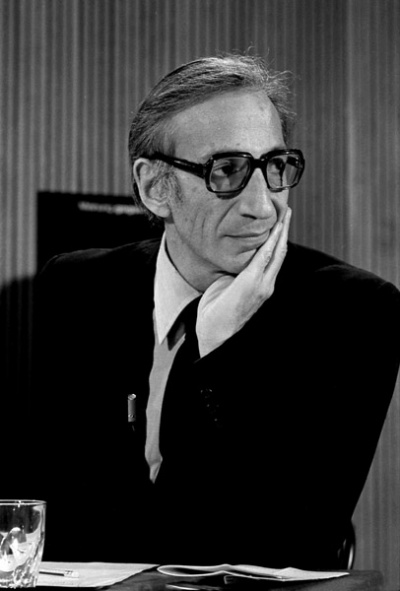«Преследуемые от страны к стране. Еврейские беженцы в Западной Европе 1938–1944 гг.» / рецензия на книгу
Книга Инзы Майнен и Альриха Майера, изданная по-немецки, посвящена истории побегов европейских евреев, которые можно рассматривать своеобразной формой Сопротивления. Рецензия на книгу вышла в крупной швейцарской немецкоязычной ежедневной газете Neue Zürcher Zeitung. Urokiistorii публикуют ее перевод.
«Затравленные насмерть». Еврейские беженцы в Западной Европе
Урс Хафнер / Neue Zürcher Zeitung, 12 марта 2014 г.
 Во время Второй мировой войны национал-социалисты преследовали цель истребления еврейского населения Европы. То, что это им не удалось, объясняется не только победой союзников над Гитлером, но и борьбой самих евреев за выживание. Подвергавшиеся травле со стороны нацистов и брошенные демократическими государствами на произвол судьбы, евреи пытались и в самых безвыходных ситуациях избежать убийства, пусть это даже был прыжок из поезда, шедшего в направлении Освенцима, продиктованный презрением к смерти. Инза Майнен и Альрих Майер в своей убедительной книге «Преследуемые от страны к стране. Еврейские беженцы в Западной Европе 1938–1944 гг.» проливают свет на недостаточно рассмотренную сторону истории – побеги, предпринимавшиеся евреями, которые ввиду связанного с ними риска можно интерпретировать как форму Сопротивления.
Во время Второй мировой войны национал-социалисты преследовали цель истребления еврейского населения Европы. То, что это им не удалось, объясняется не только победой союзников над Гитлером, но и борьбой самих евреев за выживание. Подвергавшиеся травле со стороны нацистов и брошенные демократическими государствами на произвол судьбы, евреи пытались и в самых безвыходных ситуациях избежать убийства, пусть это даже был прыжок из поезда, шедшего в направлении Освенцима, продиктованный презрением к смерти. Инза Майнен и Альрих Майер в своей убедительной книге «Преследуемые от страны к стране. Еврейские беженцы в Западной Европе 1938–1944 гг.» проливают свет на недостаточно рассмотренную сторону истории – побеги, предпринимавшиеся евреями, которые ввиду связанного с ними риска можно интерпретировать как форму Сопротивления.
В фокусе – Бельгия
В центре исследования – Бельгия, которая проводила наиболее либеральную среди европейских стран политику по отношению к беженцам. Вплоть до начала войны королевство служило транзитной страной многим евреям из нацистской Германии и аннексированной Австрии. Отсюда эмигранты хотели двигаться дальше – в неоккупированную Южную Францию, нейтральную Швейцарию, в Англию, Испанию, Палестину или за океан. Но слишком часто им отказывали, их интернировали, выдавали, посылали на смерть. Например, из Нидерландов едва удавалось спасти бегством; 75 % всех живших там евреев были депортированы в лагеря уничтожения.
С Востока на Запад шло огромное движение беженцев, историю которого за период с 1938 по 1944 гг. исследовали Майнен и Майер. Она – специалист по общественным наукам в университете Ольденбурга, он – отставной преподаватель истории того же университета. Речь идёт о бегстве от открытого террористического преследования евреев в Германии почти до конца войны, когда «окончательное решение», геноцид, шло полным ходом. Сначала нацисты принуждали евреев в Германии, многие из которых иммигрировали с Востока, немедленно оставить страну. Лишённым своей собственности, отчасти без документов, им приходилось просить соседние западные государства о принятии или – в наиболее характерных случаях отказа – пытаться нелегально перейти границы. С одной стороны, эти страны были неподготовлены; традиционное право убежища не предусматривало случая преследуемых «по расовым мотивам». С другой – почти повсюду преобладало основное антисемитское настроение.
После 1941 г. нацисты изменили свою политику: они запретили евреям выезд, чтобы задержать их и убить на Востоке. В качестве кандидатов на смерть многих беженцев посылали назад, туда, откуда они бежали. Только сегодня, как это ни удивительно, названные в исследовании цифры позволяют представить масштабы драмы беженцев, которая предшествовала драме уничтожения.
До 1941 г. из Германии добрались в соседние западные страны и Америку не менее 270 тыс. евреев, более половины всего еврейского населения; в одном только 1939 г. бежали примерно 80 тыс. В том же году примерно 60 тыс. евреев из сферы господства Германии легально или нелегально находились в Западной Европе. Для них, как и вообще для евреев и всех, кого преследовал режим, ситуация резко ухудшилась с началом войны, и это продолжалось вплоть до поражения нацистской Германии.
Читающий непрофессионал не всегда с первого раза поймёт простирающиеся на десятки страниц вычисления, которые при этом безусловно, очень важны для более точного знания о холокосте и событий, предшествовавших ему. Цифры приобретают смысл только в том случае, если их можно будет сравнить с известными и информативными величинами. С нарастающим ощущением подавленности читаются описания многочисленных судеб отдельных людей, реконструированные авторами. Едва ли можно в достаточной степени представить себе всю противоестественность жизни в условиях бегства. Всё время в страхе, ожидая визы, в пути с поддельными документами, нелегально переходить границы, жить по неправильным адресам, в поисках родных, без средств к жизни, голодая, попадая в тюрьмы, высылаемые французскими или швейцарскими пограничными чиновниками, оставляя детей или посылая их вперёд – так на протяжении многих лет пытались выжить преследуемые. Это близкое к источникам, трезвое и немногословное описание тёмных лет бегства трогает до глубины души.
Уважение
Почти все истории так или иначе завершаются в Освенциме. В книге Майнен и Майера мало переживших холокост потому, что источники, с которыми работали авторы, фиксировали преимущественно убитых; указывается, что около половины 50 тыс. беженцев, пробившихся в Нидерланды, Бельгию и Францию, смогли ускользнуть от преследователей. Все эти источники – полицейские досье, официальные указатели, списки лиц, подлежавших депортации и т.д. – оцифрованы, и поэтому доступны в интернете. Тем самым исследование – образцовый пример «Digital Humanities». Но авторы не испытывают особой радости в отношении массовой оцифровки данных. Точное знание о жертвах, созданное с помощью банков данных и агрегирования информации, кажется им чуть ли не зловещим. Заметно, что они очень недовольны тем, что людей снова педантично идентифицировали — на этот раз в виде «случаев». Инза Майнен и Альриха Майер явно испытывают большое уважение к человеческой памяти об убитых. Авторы представляют и ужасаются: что было бы если бы в распоряжении немецкой бюрократии того времени оказались современные технико-цифровые средства. Ещё меньше побегов оказались бы удачными.
Перевод Валерия Бруна
Книга: Insa Meinen, Ahlrich Meyer. Verfolgt von Land zu Land : jüdische Flüchtlinge in Westeuropa 1938-1944. Jörg Paulsen. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2013