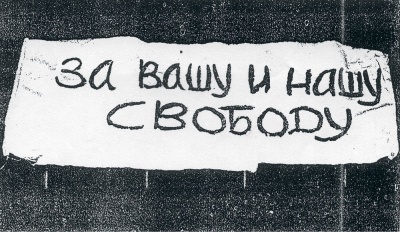Наталья Горбаневская: «Я себя чувствую очень единой. Когда пишут: поэт, переводчик, правозащитник – всё это я»
Наталья Горбаневская (1936–2013) – правозащитница, поэтесса, переводчица. Интервью сделано 17 сентября 2013 года в Москве. Я давно хотела поговорить с Натальей Евгеньевной. В первую очередь, о переводах, которыми она занималась много и до самого конца. И о детстве, семье, книгах, об атмосфере, в которой жила в школьные годы. Мне всегда интересно, в какой среде формируется будущий переводчик, что он читает в детстве, что его окружает, чем интересуются его родители… Интервью получилось большое, мы хотели продолжить разговор в декабре. Договорились устроить вечер переводов.
– Cколько вам было, когда вы научились читать?
– Четыре. Мне брат подарил кубики с буквами, но, по-моему, я училась как-то сразу по книгам.
– Интерес к зарубежной культуре, языкам у вас из семьи шел или нет?
– Отчасти он с мамой, конечно, связан. Моя мама в 1935 году приехала из Ростова в Москву, там она работала в библиотеке Ростовского университета, а здесь поступила на Высшие библиографические курсы. И после этих курсов осталась работать в Книжной палате. А когда кончилась война, стали от всех требовать дипломы, оказалось, что диплом Высших библиографических курсов не признается за вузовский, и мама пошла в Иняз на вечернее отделение и за три года окончила пятилетний курс. По какой-то старой французской книжке она учила географию Франции, а я сидела рядом и смотрела, например, какие департаменты во Франции. Когда я начала учиться, ввели – не знаю, во всех ли школах – иностранный язык не с пятого класса, как было раньше, а со второго. И у нас был французский. То есть французский я учила хорошо до восьмого класса, а потом начала лодырничать и прогуливать. И поэтому когда я потом приехала во Францию, обнаружилось, что лексику я всю потеряла, а грамматика сохранилась ровно в том объеме, в котором я ее доучила до восьмого класса. То есть в условных наклонениях я и до сих пор путаюсь, в согласовании времен.
– Расскажите подробнее про свою школу. Это была обычная школа?
– Школа была самая обычная, тогда не было никаких специализированных. 93-я школа на Большой Молчановке. Я поступила туда в 1944 году, и сразу во второй класс. Почему во второй? Тогда в детский сад было трудно попасть, поэтому, когда маме удалось меня в сад устроить, мне уже было шесть с половиной. В то время идти в школу в семь лет было необязательно, так я пробыла лишний год в детском саду.
– Вы недалеко жили от Большой Молчановки? Почему именно в эту школу пошли?
– Мы жили на улице Чайковского, ныне это Новинский бульвар. Мама еще застала, когда он назывался Новинский бульвар. Но я не там родилась. Мы первые три года скитались по всяким съемным комнатам, а в 1939 году Книжная палата дала нам комнату в своем жилом флигеле, в подвале. Там мы прожили до 1950 года.
Когда мама училась, я все время сидела с ней. Она французский знала хорошо, а еще немецкий и английский, она их учила в гимназии, а потом в институте.
– Где ваша мама училась?
– Она училась в Москве. Причем так: их было четыре дочери, младшая была еще маленькая, а трех отдали в частную гимназию. Но потом выяснилось, что на обучение денег нет, и учиться оставили только маму – ей за способности дали стипендию, которая покрывала расходы на учебу. В 1918-м году она окончила гимназию, ей выдали аттестат – свидетельство об окончании единой трудовой школы. Потом от голода в Москве они уехали на родину деда и бабушки в Воронежскую губернию. Родители моего деда и бабушки детьми вышли из-под крепостного права. Это крестьянская сторона моей генеалогии.
– Вы застали своих дедушек-бабушек?
– Моя бабушка с нами жила и деда я знала. Они задолго до того разошлись, и мы с братом один раз ездили к деду на каникулы в 1946 году.
– В Воронеж?
– Нет, это было под Грозным. Мы жили в доме, где от хозяев осталась только деревянная люлька. Там жил мой дед с женой, он был каким-то служащим. Каждое утро проходился по системе арыков, измерял уровень воды – где надо, подымал шлюзы, где надо, опускал.
– А какое у него было образование?
– Поскольку он дослужился примерно до счетовода, думаю, была какая-то школа. Бабушка моя окончила прогимназию в Воронеже, а про деда не знаю.
– Вы с детства много читали, а много ли книг было в доме у дедушки, у мамы с бабушкой?
– Очень хорошо помню, что читала у деда «Популярную астрономию» Фламмариона. Какие-то книги там были, без книг я не могла и месяца прожить, а читала я очень быстро. А у нас книг было немного – места мало, к тому же эта сырость, которая четыре времени года текла по стенам… Мы жили в подвале, и часть комнаты занимала русская плита (это такая дровяная плита без верха). А уборная и кран с холодной водой были в общей с соседями комнатушечке, даже коридором ее не назовешь.
– А сколько семей жило в квартире?
– Две. Дальше по коридору было еще одно помещение, что это было раньше, я не знаю, какие-то людские, может быть, у князя Гагарина. У соседей, пожилых людей, мужа и жены, была крошечная комната, у нас же довольно большая, но окошки низенькие, причем напротив был еще парапет, который теоретически охранял от потоков воды, а практически каждую весну мы с братом выходили скалывать оттуда лед, чтобы к нам в комнату не пошли потоки.
– Расскажите подробнее о своей семье, родителях.
– У меня была очень певческая семья, нам же с братом медведь на ухо наступил, а все мамины сестры хорошо пели. Одна жила в Москве, другая – в Ростове, третья – то на Дальнем Востоке, потом в Ереване, Таганроге… Они все были очень музыкальны. Моя бабушка в 1915 году была первой солисткой в хоре Морозовской больницы, где регентом был Пятницкий. Помню, с огромным удовольствием читала какую-то бабушкину хрестоматию, детскую. В ней было: «Дети! В школу собирайтесь…», потому что в наших этого не было, естественно. Мама очень много стихов мне пела. Например, «Воздушный корабль».
– На ночь как колыбельную?
– Колыбельные я просто помнить не могу, хотя, наверное, мама их тоже пела. Помню, сижу у нее на коленях, и она поет, а я запоминаю наизусть. У меня этот «Воздушный корабль» встречается в ряде стихов, потому что он был мне очень дорог. В 1941 году, когда мне исполнилось пять лет, подарили мне юбилейный том Лермонтова, и я, конечно, очень долго любила Лермонтова, а не Пушкина. А потом разобралась.
– Теперь Пушкин в вашей поэтической иерархии на первом месте?
– Да. Еще в школе все равно больше любила Лермонтова. Но это нормально – такое подростковое и юношеское.
– Какие у вас впечатления остались от школы? Любимые учителя? Что нравилось, что нет?
– У меня была очень хорошая учительница литературы. То есть она преподавала, естественно, по учебнику, по программе, тем не менее, были во всем этом какие-то важные вещи. Вот мы начали проходить Белинского, и она вдруг нам дала целый урок о философии того времени, в частности, о философии идеализма. А мы слушали и смеялись, нам этот идеализм, конечно, был смешон. Нам – 12-13-летним девчонкам. Это была женская школа к тому же. Женские и мужские школы соединили в 1954 году, а я окончила школу в 1953-м. Галина Семеновна, так ее звали, с нами была честна. Вот ей Маяковский не нравится, она говорит об этом, а я очень любила Маяковского, но то, что Галина Семеновна говорит нам о своем отношении, для меня было необычайно важно. К тому же она была еще дочкой учителей, а это значит людей, как говорит Паниковский, «с раньшего времени».
– Это была ваша любимая учительница?
– Да-да. Мы были в пятом классе, это был 1948 год, а она только окончила институт и пришла к нам и учительницей литературы, и классной руководительницей. В интервью Линор Горалик я рассказывала, что от мамы я научилась… даже не научилась, это как-то само собой было: не врать, честно говорить. И у Галины Семеновны это тоже было: не врать. Может быть, она не скажет лишнего, может быть, она думает что-то лишнее и знает, но врать – никогда нам не врала, и это было очень важно.
– А еще какие впечатления и воспоминания остались у вас от школы?
– Да, в общем, не безумно приятные, потому что я сама себе малоприятна, когда вспоминаю себя в то время. Я была довольно закомплексованным ребенком, и это потом долго продолжалось. Маленькая, толстая, косая… Очень рано мама у меня обнаружила косоглазие. Причем, судя по фотографиям, оно было не наружу, а, наоборот, к носу. И она повела меня – это было еще до войны – к известному профессору Чанцову. Он сказал: «Ничего, подрастет – сделаем операцию». Потом началась война, про все забыли, и когда мне было уже одиннадцать лет, и у меня начался конъюнктивит, мы пошли к глазнику. Проверили зрение: один глаз у меня практически не видел, и нас послали в Глазной институт, но мы еще год ждали туда очереди. Когда мы туда пришли, нам сказали: «О чем же вы раньше думали?..». Наконец, в двенадцать лет мне прописали очки, а до тех пор я ходила без очков. Правда, вблизи я хорошо видела, и чтению это не мешало. В хорошее время года я выносила во двор табуретку, ставила перед ней маленький стульчик, на табуретку клала книжку – одно время это была «Война и мир». Помню, дошла до середины третьего тома и очень умно так подумала (мне было восемь лет): «Нет, это мне еще рано читать».
– А почему рано? Там что-то романтическое было, или почему?
– Нет, мне трудно было как-то все это освоить. Видимо, я уже запуталась кто, что и к чему. Или дошла до каких-нибудь исторических рассуждений, не помню, почему. Но где-то на середине третьего тома я поняла: «Нет, прочту позже».
Так как до двенадцати лет я ходила без очков, я чувствовала, что мне что-то в жизни мешает, но не знала, что, а это было просто плохое зрение. Видимо, я не очень хорошо видела, что пишут на доске.
– А друзья у вас в школе были?
– У меня до сих пор сохранилась дружба с Ниной Багровниковой. Все знают «Ниночка, Ниночка». Мы с ней были самые маленькие в классе, сидели на первой парте. Потом она меня все-таки немножко переросла. Играли в чепуху – и рисовальную, и стихотворную. Когда она была маленькой, то сочиняла какие-то смешные стихи, а ее отец, художник, сделал в одном экземпляре книжку ее стихов. Возьмем с ней, например, строчку «Жил на свете рыцарь бедный…» и дальше сочиняем.
– Не помните что-нибудь из тех стихов?
– Нет, ничего не помню, совершенно ничего.
– А как вы учились?
– Как говорила учительница истории: «Вот Наташа: то двойка, то пятерка, то двойка, то пятерка…».
– То есть очень неровно.

– Просто потому, что что-то было скучно или не хотелось готовить. По литературе и русскому я все время хорошо училась, по математике было «хорошо», то есть когда я кончала школу, учительница математики страшно жалела, что я иду на филфак, а не на мехмат. У меня на всю жизнь осталась любовь к математике и математикам. Настоящего математика из меня не вышло бы, может быть, только рядовой программист. Ну и настоящего филолога из меня не вышло, в общем-то. Я всю жизнь пишу то переводы, то примечания к собственным стихам, то статьи, воспоминания, рецензии… Это все-таки не то чтобы анализ, в основном, еду на цитатах, но так их красиво сплетаю. А настоящего филолога из меня не вышло, тем более, что я видела настоящих филологов и дружила и с Лотманом, и с Зарой Григорьевной Минц, и много у меня друзей среди вполне таких академических филологов, так что я свое место знаю.
– Вы себя как-то определяете, кто вы? Что для вас самое важное из того, чем занимаетесь? Или в какие-то моменты то одно важно, то другое?
– В принципе я себя чувствую очень единой. То есть когда пишут: поэт, переводчик, правозащитник – все это я. Ну, а если надо что-то подписать… Была, например, кампания в защиту РГГУ, когда их собрались выселять, тогда я пишу: «Наталья Горбаневская – филолог, почетный доктор Люблинского университета Мари Кюри-Склодовской». Когда надо подписать какую-то петицию в защиту заключенных, пишу: «Бывшая советская политзаключенная». Но это для подписи, а для себя я всё – и то, и другое, и третье… Наташа, в общем.
Интервью Елены Калашниковой