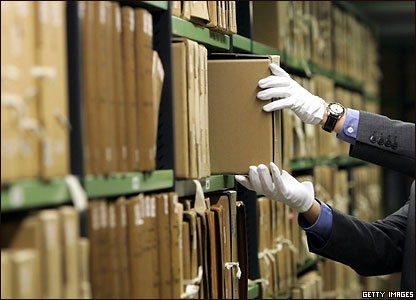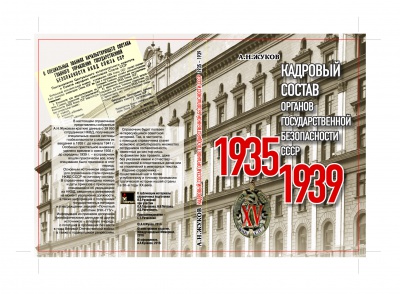Понятие «архив» между теорией и практикой
Авторы – Герберт Копп-Оберштебринк, Катя Шипке
Источник: Trajekte, № 34, April 2012, Ss. 16 – 20.
Архив жизнеспособен в виде понятия, метафоры или фигуры мышления, вездесущ в теории и на практике. Вот уже многие годы это слово можно встретить на джутовых сумках и теннисках; оно служит названием погребков или пивнушек и страниц в интернете. Ввиду архивных дискурсов в культурологии, литературоведении и медиаведении, многочисленных в искусстве и не в последнюю очередь в публичных дискуссиях, ввиду многочисленности вновь возникших архивов, а также научных исследовательских проектов на определенную тему заключение о том, что нет «ничего менее надежного, ничего […] менее однозначного, чем слово „архив“», представляется более актуальным, чем когда-либо
Если обратиться к традиционному архивоведению, то положение представляется ясным. Под «архивом» оно подразумевает «учреждение или организационную единицу, охватывающую, осваивавшую, сохраняющую и делающую доступным архивные богатства. В переносном смысле и здания архивов, но скорее редко – архивированные документы»
Подчеркивание историчности понятия внутри междисциплинарной истории понятий может способствовать наведению моста через эту пропасть. Ведь сначала понятие архива характеризовалось внутри определенной дисциплины, архивоведения, прежде чем превратилось впоследствии в ключевое понятие многочисленных других дисциплин. При этом, однако, уже внутри отраслей архивоведения, отмеченных, к тому же, воздействием национальных особенностей, должны были быть зафиксированы различные моменты абстракции
Центральная задача истории архивоведения, действующей на междисциплинарном уровне, заключается в том, чтобы обрисовать в общих чертах различные культуры знания архивоведения и культурологических, медиаведческих, литературоведческих, искусствоведческих, исторических, а также научно-исторических понятий архива в их дисциплинарном генезисе и переходе через границы. При этом следовало бы преодолеть разделение между естественными и так называемыми гуманитарными науками в результате исследования с научно-исторической перспективы также и применение понятия к историческим собраниям в естественных науках, медицине и психиатрии.
В дальнейшем реконструируются три исторические конфигурации, образующие вехи на пути к формированию современного представления об архиве. Внимание обращено при этом на возникновение «двух культур» в теоретических размышлениях относительно архива в конце XIX столетия и дальнейшую дифференциацию этого процесса в направлении понятийного плюрализма. Вопрос о рассмотрении исторической практики архива
в рамках исследования истории понятий образует окончание статьи.
«Две культуры» архива? – Дильтей и последствия
Теоретические размышления, которые сопровождали и кодифицировали практику политического архива и его предшественника, регистратуры, наблюдаются с XVI в.
Если оглянуться назад, на 1889 г., год рождения культурологических теорий архивов, то обнаружится, что и возникновение первых неполитических архивов в Германской империи сопровождалось систематическим осмыслением этой практики. С открытым в Веймаре Архивом Гёте и Шиллера и литературным архивом, создание которого планировалось в Берлине, сформировалась альтернатива историческому архиву, требовавшая закладки собственной теоретической основы. Сочинение Вильгельма Дильтея «Литературные архивы» способствовало обретению литературным архивом двойной основы: с одной стороны, в обратной связи с политической концепцией «культурной нации», с другой – в перенесении принципов и методов существовавшего с давних пор государственно-политического архива на литературный
Не случайно первая публикация программного характера, призванная заложить основы теории и практики культурного архива, вышла из-под пера зиждителя самостоятельной научной теории гуманитарных наук. Заложенное Дильтеем культурно-философское обоснование культурного архива последовало по аналогии с заложенным им же обоснованием гуманитарных наук. С кодифицированным им около 1900 г. расщеплением на две культуры знания – естественные и гуманитарные науки – произошло разделение на две принципиально различные области научных методов. Благодаря этому расщеплению естественные науки превратились в модель ориентации для научности и тем самым в «строгую» науку, но стали в то же время и противоположностью гуманитарным наукам. Так неизбежно сформировались две различные научные номенклатуры.
В случае закладки основ литературного архива Дильтей прилагал усилия к тому, чтобы обеспечить единство между архивами политическим и культурным. Это имело силу как для их практики, так и применительно к соответствующим теоретическим концепциям. Его аргументация осталась и поэтому столь же ориентированной на архивоведение как на прикладную науку об архиве, сколь и на ее терминологию; расширено было только понятие архива. Но уже немедленно начавшаяся архивоведческая критика этого размягчения понятия архива показала со всей ясностью,
что тем самым вопреки намерению Дильтея был фактически совершен первый шаг к расщеплению на «две культуры» архива, как можно сформулировать по аналогии с отличием «строгих» естественных наук от гуманитарных. Формирование соответствующих различных словарей было только вопросом времени
Назад в будущее архива: Фуко, Деррида и последствия
Вторую веху, ознаменовавшую значительные последствия, означала «Археология знания» Мишеля Фуко. Его основополагающее убеждение, согласно которому архив представляет собой «всеобщую систему формации и трансформации высказываний»
С Фуко к «двум культурам» архива присоединилась еще одна, к архивоведческим и культурно-философским концепциям архива добавилась еще и концепция, построенная на анализе дискурсов. Но за возведением архива в ранг исторического априори анализа дискурсов последовало сначала только нерешительное заимствование, которое постепенно ускорилось лишь с открытием эпистемологической модели, которую положил в основу Фуко – археологии, и ее применимости к наукам о СМИ и культурологии
С середины 90-х гг. появлялось постоянно росшее число медийно-теоретических и культурологических публикаций, в которых понятие архива использовалось как метафора. В качестве «спускового устройства» и «метательного заряда» для этих теоретических размышлений может служить разработанная Деррида и метко охарактеризованная с помощью неологизма «архивология» наука об архиве, спланированная на междисциплинарном уровне
В гораздо более значительной мере, чем это имело место в «Археологии знания», в поле его зрения оказываются аспекты власти архива и его внешнего облика, местонахождения и образа. Но, обращаясь к «Чудо-блокноту» Фрейда, Деррида в Mal d'archive рассматривал архив прежде всего как институт, который лежит в основе памяти, находящейся под угрозой затухания и стирания информации – того, что сохранено в неосознанном воспоминании
Новая неясность – теория архива в XXI столетии
Предварительное теоретическое решение Деррида работать не с архивом, а «со словом „архив“, представлялось, между тем, лишний раз указывающим на отчуждение этого теоретического размышления об архиве как институте, проведенного на мультидисциплинарном уровне, и активизировало архивоведение
За первоначальными попытками сохранения «собственного» понятия архива с помощью разграничения от его метафорического размягчения постепенно последовало после поворота, совершившегося на рубеже тысячелетий, серьезное осмысление «текстуальной природы» архива
К числу следствий этой работы, имеющей целью преодоление пропасти между различными культурами понятия архива, добавилась новая неясность. Казалось, будто самое позднее с Фуко и Деррида установился дихотомический порядок двух совершенно различных архивных словарей. Там, где, например, в архивологическом дискурсе в ранг основных были возведены такие понятия, как собирание, накопление, воспоминание,
забвение, память, следы и порядок знаний, в архивоведческом имеют дело с формированием традиций, кассацией, раскрытием, сохранением фонда и статистикой. Но видимость такого дихотомического порядка обманывает, причем в двойном отношении: ни необузданное разрастание архивов и анархивов (по-видимому, мы имеем дело с неологизмом-каламбуром, построенном на использовании двух корней – анархия и архив. – Прим. перев.) нельзя теоретически наверстать с помощью все нового дизайна понятия, ни разделение на «строгую» науку об архивах и пестрый букет гетерогенных, в самом широком смысле культурологических архивологий не может служить для описания современного состояния дискуссии об архиве. Слишком уж разнородны различные терминологии, впечатление слишком большой переливчатости производит употребление постоянно расширяющихся понятий и метафор, слишком велики взаимные наложения между словарями
Задача междисциплинарной истории понятий
Тем самым в заключение в поле зрения оказывается еще один аспект, который превращает архив в вызов для истории понятий. Ведь к известным вопросам, которые возникают сегодня относительно междисциплинарной истории понятий, – например, о возможном соотношении понятия и метафоры – применительно к архиву добавляется аспект, имеющий решающее значение, а именно практика архива. Ведь перед понятием, метафорой, фигурой мышления, моделью архива, перед каждым дисциплинарным теоретическим осмыслением или нормированием стоит в каждом случае их практика – она является подлинным историческим априори каждой теории архива. Тем самым, однако, истории понятий должен был бы помочь другой методический подход, праксеологический, ориентированный на многообразные практики, необузданные в своем разрастании. Интеграция этого двойного методического подхода представляет собой настоящий вызов междисциплинарной истории понятий
Перевод Валерия Бруна-Цехового
Об авторах:
Герберт Копп-Оберштебринк – специались по истории философии, работает в Проекте Центра литературоведения и культурологии «Письма, написанные Якобом Таубесом, и адресованные ему». Последнее его издание совместно с Мартином Тремлем – том Jacob Taubes ~ Carl Schmitt. Briefwechsel mit Materialien (Munchen: Fink, 2011).
Аня Шипке изучает архивоведение в высшей специальной школе в Потсдаме и является сотрудницей в проекте Центра литературоведения и культурологии «Письма, написанные Якобом Таубесом, и адресованные ему».