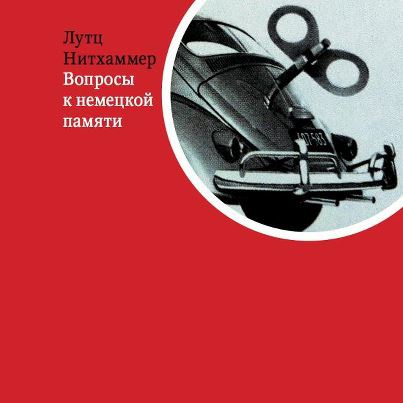Лутц Нитхаммер. Вопросы к немецкой памяти / Интервью с автором
В «Новом издательстве» вышла книга Лутца Нитхаммера «Вопросы к немецкой памяти» (перевод Кирилла Левинсона). Автор собрал свидетельства немцев о жизни во время войны, в тылу и на фронте, и о послевоенных годах. Он исследует стереотипы в биографических рассказах, говорит о возможных причинах лакун в памяти и о разнице между тем, что помнили жители ГДР и ФРГ. Сайт urokiistorii публикует введение к книге, представляющее собой одновременно биографическое интервью.
Интервью Ирины Щербаковой
Лутц, ваша новая книга посвящена Устной истории (Oral history), поэтому мы, в лучших традициях этого жанра, решили, вместо обычного предисловия, включить в нее большое биографическое интервью. Для начала расскажите о себе, чтобы читатель мог представить вашу биографию в контексте времени и на фоне того поколения, к которому вы принадлежите; чтобы таким образом он мог лучше понять те вопросы, которые занимали вас как историка.
Л.Н. Важную роль в моей жизни и моем становлении сыграло то, что я воспитывался в буржуазной среде. Мать происходила из некогда преуспевающей, но захиревшей бюргерской фамилии из Рейнской земли. Ее отец, мой дед, был банкиром, а взгляды имел либерально-католические. Мой отец, напротив, был родом из семьи мелкобуржуазной, представители которой сумели подняться по социальной лестнице. Дед с отцовской стороны тоже в некотором роде занимался финансами: был управляющим на пивоваренном заводе в Швабии. Так что в моей семье впервые пересеклась две линии: мелкой буржуазии и культурного бюргерства. Я всегда идентифицировал себя с семьей матери, впрочем, это отчасти объяснялось тем, что своего отца я узнал, когда мне было уже 12 лет. До этого он был на фронте и в плену. Его призвали в сентябре 1939, а я родился под рождество того же года. Существует даже семейная легенда, что когда отец однажды приехал в отпуск, а мне тогда было, кажется, года три, я якобы сказал: «Пусть дат уйдет!», в смысле «Пусть солдат уйдет!». Потому что я тогда вообще не понимал, что это такое – отец, а увидел только незнакомого человека в форме. Надо сказать, что помимо бюргерского начала в нашей семье присутствовал и творческий элемент: мои родители оба были графиками и занимались промышленным дизайном.
Меня воспитывали мать, бабка и тетка, то есть я, по сути, рос в той самой католической либеральной среде, к которой принадлежал еще мой дед. Отец же был совсем из другого теста: в 1933 он вступил в НСДАП, а затем в СА. Впоследствии он полностью подчинил себе мою мать, которая поначалу сопротивлялась, а потом, смирилась. Дело в том, что в 20-ые годы она, в отличие от отца, всерьез увлекалась современным искусством. Так что в период нацизма ей пришлось приспосабливаться, в том числе и творчески. Помню, в юности меня это глубоко поразило, так как после войны она вместо бывшего тогда в моде стилизованного китча, вновь стала делать авангардные вещи, и мне казалось, что у меня на глазах рождается замечательная современная художница, хотя на самом деле она просто вернулась к тому, с чего начинала.
Как вы думаете, она когда-нибудь всерьез задумывалась о том, что произошло с ней и с ее искусством?
Л.Н. Видите ли, после прихода нацистов она, во многом по настоянию моего отца, решительно разорвала все связи с авангардной средой. А потом просто вернулась в нее, как ни в чем, не бывало. Полагаю, что никакой рефлексии по этому поводу у нее не было. Я хорошо помню те вещи, которые она делала, когда мне было 5-6 лет, для французских, а потом и для американских оккупационных офицеров. Это было нечто в примитивистском духе и вполне котировалось даже в нацистские времена. Впрочем, денег ее картины приносили мало, так что жили мы довольно скудно. Потом, когда я уже стал постарше, то своими глазами мог наблюдать своеобразную обратную эволюцию ее живописи: постепенно ее работы становились все более и более беспредметными, и мать даже разрешала мне придумывать для них названия. Так что у меня создалась полная иллюзия движения от предметной живописи к абстрактной, хотя на самом деле это было не так. В отличие от моего отца, у матери были друзья среди евреев. Она часто говорила, что отец заставил оборвать все связи с ними. Например, прекратить отношения с одной подругой-еврейкой, которой удалось эмигрировать еще до холокоста. Воспринимала ли она это как приспособленчество? Не думаю. Во всяком случае, она никогда не говорила об этом прямо. Когда мне было два с половиной года, в наш дом в Штутгарте попала бомба, погибли и все работы моей матери, а то немногое, что осталось от того периода ее творчества, я берегу как зеницу ока.
После того, как нас разбомбили, мы всей семьей перебрались в деревню к моей бабке и тете, которая преподавала в местной гимназии французский, английский и историю. Пожалуй, именно она оказала на меня в юности наибольшее интеллектуальное влияние. Благодаря ей я увлекся литературой и стал интересоваться религией (хотя она была католичкой, но взгляды имела вполне широкие). Окрестили меня в протестантской церкви, так что я воспитывался сразу в двух традициях: протестантской и католической. Возможно, именно поэтому я потом поступил на теологический факультет. Отец мой был совершенно не религиозным человеком, да и мать скорее была неверующей. Верующими были обе мои бабки с отцовской и материнской стороны. Бабушка с материнской стороны была католичка, впрочем, относилась к этому не без юмора и даже некоторого цинизма, а с отцовской, наоборот, – ревностной протестанткой и вообще довольно серьезной дамой. Впрочем, близкие отношения у меня были именно с первой. А дедов своих я не знал вовсе.
Сохранились ли у вас воспоминания о войне?
Л.Н. Реальных воспоминаний у меня осталось очень немного. Я часто пытаюсь воссоздать те первые картины, которые должны были бы сохраниться у меня в памяти. Но беда в том, что у меня нет таких воспоминаний-картин. Есть, пожалуй, одно единственное о том, как наш дом разбомбили. Я отчетливо помню, что нас эвакуировали из города еще до этой бомбежки. Однако мой брат, который на несколько лет старше, утверждает, что в ночь бомбардировки мы еще оставались в нашем доме. Но я как ни стараюсь, не могу этого вспомнить. Когда я мысленно возвращаюсь к тем событиям, то вижу перед собой такую картину: мы сидим на кухне нашего загородного дома в 70 километрах от Штутгарта, и окна выходят на север, так что виден весь город и над ним ярко-красное зарево. Бабушка говорит: «теперь — это ваш новый дом». Так оно и случилось.
Эту сцену помнят все члены семьи, но одни говорят, что она произошла уже после бомбардировки и что нас, детей, вообще не было на кухне, а мой брат, например, утверждает, что дом обрушился прямо на нас, и что сцена на кухне произошла уже позже и во время другой бомбардировки. Я думаю, мы все-таки успели эвакуироваться раньше, но точно сказать не могу. Помню только, как бабушка сказала: «все, дому в Штутгарте конец».
Другие ранние воспоминания касаются главным образом последних дней войны и вхождения в нашу деревню оккупационных войск — сначала французских, затем американских. От тех времен у нас сохранилось две семейные легенды. Одна совершенно душераздирающая. Дело в том, что рядом с нашим деревенским домом (кстати, я недавно его обнаружил, он стоит пустой, но в полной целостности и сохранности) был сад, а в саду росло большое грушевое дерево. Пригороды, как правило, не бомбили, но каждый раз, когда раздавалась воздушная тревога, мы на всякий случай прятались в подвале. Однажды (дело было за несколько дней до конца войны) в наш сад все-таки упала бомба, правда сам дом не пострадал, но когда мы вышли из подвала, дерева в саду уже не было — на его месте осталась только воронка. Но ужас был в том, что когда мы бежали в подвал, то видели, как под ним пытался укрыться остарбайтер.
И когда вы вышли, его уже не было?
Л.Н. Да. Только воронка осталась. Мне тогда было всего пять лет.
Он был поляк или русский, не помните?
Л.Н. Этого я не знаю. Знаю только, что он был один из тех, кого по нацистским законам не разрешалось пускать в дом. Хотя мои бабка с теткой из-за своей религиозности нацистов терпеть не могли, но в данном случае им приходилось подчиняться.
Другое воспоминание о «рабочих» в полосатой одежде, которых гнали через мост на располагавшиеся неподалеку шахты. Тогда я еще не понимал, что это идут заключенные концентрационного лагеря.
А еще я отчетливо помню, как в нашу деревню вошли французы, вернее, марокканцы, — это были колониальные войска. Их приход показался мне похожим на карнавал. Однажды один марокканец попросил у бабушки нож, и принес его обратно в зубах, потому что руки у него были полны конфет, предназначавшихся нам, детям.
Это были негры?
Л.Н. Да. Еще я помню, что вокруг дома была каменная дорожка, по которой мне не разрешали кататься на деревянном самокате, поскольку от этого якобы портились плиты. Разумеется, я был глубоко возмущен: других подходящих дорожек в деревне не было, и самокат все время застревал в грязи. А французы разбили лагерь прямо у нашего дома, поскольку напротив находилось стратегически важное шоссе; поставили у нас на заднем дворе свои танки и, конечно, разнесли эту ненавистную дорожку вдребезги. Я был счастлив. И с тех пор считал их настоящими воинами-освободителями.
А что стало с вашим отцом?
Л.Н. Отец воевал сначала в Польше, затем некоторое время во Франции, пока в 1941 его не отправили на восточный фронт. Он был обычным солдатом, во время войны никакого повышения не получил: сначала был водителем у одного офицера, потом, когда выяснилось, что он умелый рисовальщик, стал картографом. Он даже некоторое время был санитаром. Что само по себе удивительно, ведь отец был членом нацистской партии и мог бы рассчитывать на гораздо большую военную карьеру. Но, по-видимому, он не особенно к этому стремился. Впрочем, я его подробно не расспрашивал, мы в то время вообще старались не задавать лишних вопросов про войну. Знаю только, что служил он на Украине, причем, как потом выяснилось, в местах массового уничтожения евреев. Между прочим, у нас с братом был игрушечный деревянный паровоз, ярко раскрашенный и с немецкой надписью, но что именно было на нем написано, я никак не могу вспомнить…Не правда ли, классический случай подсознательного вытеснения?! А ведь это было первое прочитанное мною слово. По-моему, название города.
Украинского?
Л.Н. Нет, нет.
Может быть, белорусского? Случайно не Витебск?
Л.Н. По-моему, нет. Кстати, в детстве я очень любил эту игрушку. Вспомнил! Могилев. Отец прислал мне ее, когда нас разбомбили, и никаких игрушек в доме не осталось. Мы тогда жили вчетвером с матерью в одной комнате.
Это типичная советская игрушка 30-ых годов. Их часто можно увидеть на фотографиях тех времен.
Л.Н. Вот, и у меня такая была. Между прочим, я уже тогда понимал, что Могилев — это, должно быть, какое-то место, вроде Зюльца, куда нам пришлось бежать.
В 44 году отец попал в плен, сначала был в лагере под Харьковом, потом еще в нескольких лагерях в районе Днепропетровска, где он какое-то время проработал на шахте как военнопленный. Затем до самого освобождения был санитаром. Кстати, отец всегда с большим уважением вспоминал начальницу лагерной больницы, которая, между прочим, была еврейкой. Что, конечно, не могло не вызывать у матери определенных ассоциаций с ее еврейской подругой, но тогда я этого еще не осознавал.
Между прочим, моя семья родом из Днепропетровска. Бабушку с дедушкой эвакуировали, а прабабка и другие еврейские родственники остались и были убиты, по-видимому, в начале ноября 1941.
Л.Н. Вот как, я этого не знал.
Да. Бывают странные сближенья. А вы помните, как отец вернулся домой из плена?
Л.Н. Я помню фотографии и письма с фронта, но, честно говоря, для меня они не имели большого значения. Я ведь рос исключительно среди женщин: в доме помимо моей бабки, тетки, матери и старшей сестры, жили еще три пожилые дамы, торговавшие тканями. Но не могу сказать, что мне не хватало мужского общества, и что я чувствовал себя каким-то образом обделенным. Даже война, если не считать истории с разрушенным домом, в общем, прошла стороной, хотя не исключено, что некоторые воспоминания я просто вытеснил. Помню, что в 1951 году появился какой-то человек, изможденный и бледный. В юности он, должно быть, был очень спортивным, подтянутым и бодрым, я же увидел его исхудавшим, нервным и погруженным в себя. Умом я понимал, что возвращение отца — это важное событие для всей семьи, но для меня оно было с самого начала омрачено тем, что я вынужден был покинуть материну мастерскую. После того, как бабка с теткой переселились в соседний городок, в доме образовалась лишняя комната, которую мать оборудовала под студию — там она писала свои работы и пила кофе. Мне как самому младшему разрешалось в ней играть: помню, у меня были такие маленькие игрушечные гномы. А когда отец вернулся, в мастерской поставили его рабочий стол, а меня выселили. Тогда в 11 лет, я впервые понял, что детство скоро закончится. Мой старший брат был как раз в подростковом возрасте, и, разумеется, тут же вступил с отцом в страшный конфликт. Отец требовал, чтобы в доме был порядок, и чтобы брат был более усердным и старательным.
Типичная история. Прямо как в кино: отец возвращается с войны и не может ужиться со своими повзрослевшими детьми…
Л.Н. Причем у нас семейные ссоры, как правило, заканчивались побоями. Тогда ведь и в школах часто били. Но я у матери был любимчиком, к тому же, невольным свидетелем и спутником ее творческой эволюции, или скорее, возвращения к истокам, должно быть, поэтому она строго настрого запретила отцу меня бить. Помню, я все удивлялся, что он вечно набрасывается на брата, который, надо отдать ему должное, был в то время ужасным бездельником, а меня при этом трогать не смеет, словно вокруг витал какой-то незримый ангел-хранитель. Впрочем, я был довольно тихим и послушным ребенком. К тому же, ужасно неспортивным. Поэтому мой отец, который, наоборот, был большой спортсмен, вообще считал меня несколько недоразвитым: еще бы, в футбол не играет, плавать не плавает…И все же он, как мог, старался наладить отношения с женой и детьми. И был даже благодарен матери, что она вопреки его указаниям сохранила мастерскую и стала совершенно самостоятельной, в том числе и в творческом плане; а потом благоразумно уступила ему руководство, так что отец, кроме всего прочего, занимался еще и поиском заказчиков.
А чем именно они занимались, живописью, скульптурой?
Л.Н. Главным образом промышленным дизайном. Отец после войны стал проектировщиком выставочных помещений. А мать занималась мелкой пластикой. Кстати, ее вещи пользовались в 50-ые большим спросом, так что жилось нам хорошо. Много лет спустя я узнал, что отец добился успеха во многом благодаря своим прежним нацистским связям. Дело в том, что в СА был своего рода союз художников под названием «Кюнстлерштурм» и директоры нескольких крупных штутгартских рекламных фирм были в свое время членами этого союза. Родители иногда брали меня с собой на всякие неофициальные встречи с клиентами — это были сплошь старые знакомые отца с нацистских времен. В 1953 мы всей семьей вернулись в Штутгарт и дела наши шли, особенно по тем временам, весьма и весьма неплохо. У нас даже была своя машина.
Кстати, история этой машины весьма примечательна: мой отец и старший брат были страстные автолюбители, так что еще до войны мы купили желто-коричневый необычайно элегантный кабриолет, который отец перед отправкой на фронт аккуратнейшим образом спрятал в лесу под спиленными деревьями. В 1951 году они с братом нашли эту машину, которая, естественно, вся проржавела. К счастью, у отца был знакомый автомеханик, который тоже недавно вернулся из плена и открыл автомастерскую неподалеку от нас. Так что кабриолет был благополучно отреставрирован и заново покрашен в бело-серые тона. Личный автомобиль в те времена считался большой роскошью. И отец надеялся с помощью машины подкупить нас, детей, поскольку мать решительно заявила, что по выходным она занимается своей авангардной живописью, а это не могло его не раздражать. Так что он всячески соблазнял нас воскресными поездками на машине, отчасти, чтобы не дать матери спокойно порисовать. Надо признаться, этот трюк часто срабатывал.
Я думала спросить об этом позже, но раз уж речь зашла о детских воспоминаниях, скажите, вы идентифицируете себя с так называемым поколением 68-года? Дело в том, что у вас довольно характерная для этого поколения биография: росли во время войны без отца, воспитывались матерью… Иными словами, вы ощущаете себя частью некоего целого? И возможно ли вообще создать коллективный портрет поколения «ахтундзэхцигер»
Л.Н. На самом деле я только сейчас понял, что мы действительно были «поколением». Раньше я просто относил себя к некой возрастной группе, чье детство пришлось на войну. Нас объединяет то, что мы восприняли эту войну с присущей детям непосредственностью, т.е. мы все видели, но толком ничего не понимали. Впрочем, нельзя недооценивать силу этих первых впечатлений, тем более что многие из них так или иначе связаны с насилием и жестокостью, творившимися тогда повсеместно. Как, например, мое детское воспоминание о грушевом дереве и погибшем остарбайтере.
Разумеется, важнейшую роль в моем становлении сыграло и то, что я рос фактически без отца. С одной стороны, я прекрасно понимал, что такие семейные отношения не вполне нормальны, с другой — когда в ранней юности я впервые заметил, как мы с отцом похожи, мне стало не по себе. Потому что я не желал иметь с этим чужим для меня человеком ничего общего, а хотел быть только маминым ребенком, появившимся на свет без участия отца. И тут вдруг оказывается, что мы с ним чуть ли не одно лицо.
И хотя все студенческие годы я жил дома с родителями, отношения с отцом у меня так и не сложились. В школе я издавал газету, в университете изучал теологию. И то, и другое казалось отцу непрактичной и подозрительной ерундой. Но благодаря вмешательству матери, я для него всегда оставался вне досягаемости. А когда старшего брата со скандалом выгнали из дома, я еще сильнее почувствовал на себе этот невидимый покров материнской защиты. Впрочем, в отличие от моего брата, я никогда открыто против отца не выступал, хотя относился ко всем его советам и наставлениям с плохо скрываемой иронией, чем раздражал его неимоверно. Но, несмотря на это, мы все же пытались, насколько могли, приспособиться друг к другу. Однажды он предложил свозить меня на море, которого я никогда прежде не видел. У него тогда была уже другая большая машина, и на ней мы поехали на Северное море. И хотя само по себе это удовольствие было для меня довольно сомнительным, т.к., в отличие от отца, я очень плохо плавал, я все же оценил его усилия и охотно пошел ему на встречу. Впоследствии было еще несколько таких акций с его стороны: он, к примеру, оплатил мне автошколу, чтобы я мог получить водительские права. И все-таки по-настоящему сблизиться нам так и не удалось.
Типичная ситуация для людей вашего поколения: отец либо погиб, либо стал чужим.
Л.Н. Да, к этому следует, пожалуй, добавить, что тогдашние молодые люди, выросшие уже в свободном обществе, крайне подозрительно относились к своим родителям, бывшим нацистам. Родители же, со своей стороны, чувствовали, что младшее поколение как бы ускользает от них. Но даже в очень авторитарных семьях дело обычно заканчивалось не перевоспитанием непокорных детей, а скандалами и навсегда испорченными отношениями. Именно это и произошло с моим отцом и братом.
Вообще говоря, война и нацистский режим оказали свое разрушающее действие на каждую семью, вопрос лишь в какой степени. У тех, кто не был эвакуирован из городов, воспоминания о гибели людей и разрушениях гораздо ярче и драматичней, чем у тех, кто, как наша семья, смог укрыться в деревне. Моя первая жена, например, всю войну оставалась в разрушенном Берлине.
Пожалуй, именно это больше всего объединяет нас, представителей поколения 68-ого года: мы очень рано столкнулись со злом и насилием, смутно осознавая при этом, что и то, и другое исходит откуда-то сверху и имеет политические причины. Думаю, именно поэтому наше поколение, в отличие от поколения моих детей, всегда воспринимало политику и мораль как вещи неразрывно связанные.
Помимо этого, был еще опыт бедной, ну или, по крайней мере, скудной жизни. Особенно это ощущалось в послевоенное время. Впрочем, я не помню, чтобы мне чего-нибудь не хватало, хотя все взрослые вокруг жаловались, что исчезла их любимая еда. Просто для нас было непривычно жить за счет собственного огорода, обменивать вещи на продукты и ютиться втроем в одной комнате. Но все же я не могу понять, как можно всерьез говорить о страданиях немецкого народа во время войны: разумеется, были и разрушенные семьи, и разбомбленные дома, и эвакуация, — все это мне знакомо, но я не считаю, что эти страдания, как бы велики они ни были, можно сравнить со страданиями, скажем, жертв Освенцима. Так что все эти рассказы о пережитых немцами ужасах меня совершенно не трогают. Больше того, я даже рад, что у меня есть опыт скудной жизни, потому что благодаря этому я знаю, как мало нужно человеку, если только он на самом деле не умирает с голоду
Сейчас в том числе и у нас в России «шестидесятников» охотно критикуют за то, что они, якобы, все видят в примитивном черно-белом свете, излишне политизированы, и склонны к морализаторству. Что вы об этом думаете?
Л.Н. Признаться, мне трудно ответить на этот вопрос. Поскольку мне кажется, что мои сверстники отнюдь не самые политизированные в этом поколении. Политические страсти кипели среди тех, кто был помладше, а когда я в 1968 году перебрался из консервативного бюргерского Гейдельберга в беспокойный Бохумский университет, мне было уже 28 лет. Ганс Моммзен
Вот как? Но ведь среди лидеров немецкого левого движения было много ваших ровесников? Руди Дучке
Л.Н. Пожалуй, но они все-таки были еще студентами, хоть и на старших курсах. Но вообще-то все наши тогдашние вожди сопротивления пошли в школу раньше меня, а я только в 45 — в те времена это была существенная разница.
Другое сильное впечатление, которое оставило у меня пребывание в Бохуме — это забастовка рабочих-сталелитейщиков. Дело в том, что раньше я никогда не видел рабочей забастовки и вообще понятия не имел ни о каком рабочем движении.
Ну и, конечно, события 1968-ого года в Чехословакии…Иногда в книгах по истории я натыкаюсь на довольно странное утверждение, будто на Западе ввод войск в Чехословакию прошел почти незамеченным. А между тем, я отчетливо помню, как волновалась молодежь в Бохуме, как собралась демонстрация, кажется, по призыву СДПГ и профсоюзов, ведь у многих в Праге были друзья и знакомые. Видите ли, до пражских событий у нас были надежды на либерализацию Восточной Европы, на пресловутый «социализм с человеческим лицом». А когда в Прагу вошли советские танки, мы вдруг поняли, что это утопия, и наши надежды лопнули, как мыльный пузырь. Для многих моих сверстников именно события в Праге стали первым серьезным политическим потрясением. Впрочем, важную роль для моего поколения сыграли и другие политические конфликты и протестные движения: выступления против ядерного оружия, отказ идти на службу в Бундесвер, берлинская стена, наконец. А для меня, хотя я до того никогда не был ни в одной из стран социалистического лагеря, очень важную роль сыграли события 1956-ого года в Будапеште. Кроме того, нельзя не упомянуть волнения 17-ого июня 53-его года в Берлине. Дело в том, что я в то время организовал школьную газету и посвятил этим событиям целый номер, где они освещались вполне в духе холодной войны. В этом номере мы поместили фотографии, где видно, как немцы швыряют булыжники в советские танки. Думаю, мы в то время придавали этим событиям большее значение, чем сами восточные немцы. Сейчас мне, конечно, за это стыдно, но тогда я очень собой гордился и даже послал номер в канцелярию федерального канцлера, чтобы показать, что и мы в провинции тоже не лыком шиты. Причем ответил мне не кто иной, как сам Глобке
Для моего поколения Глобке стал символом реваншизма в Западной Германии. Во всяком случае, об этом трубила советская пропаганда.
Л.Н. Я просто пытаюсь объяснить, почему у меня такое сложное отношение к 1968 году. Дело в том, что именно в это время я впервые открыл для себя немецкую леволиберальную традицию. Профессор, ассистентом которого я в то время являлся, был социал-демократом, и мы с ним организовали большую выставку, посвященную забастовке горняков.
Вы имейте в виду ту старую донацистскую социал-демократическую традицию?
Л.Н. Да, а также традиции немецкого коммунизма, Розу Люксембург и пр. Все это было для меня ново, ведь я воспитывался в совершенно иной среде. Так что знакомство с немецким левым движением в лице бохумских студентов, стало важным событием в моей жизни. Хотя мне, признаться, никогда не нравилась ни подчеркнутая агрессивность этих левых, ни их преувеличенная самоидентификация, ни фракционизм. Поэтому я всегда старался, насколько позволяло мое положение профессорского ассистента, наладить диалог между радикально настроенными студентами и преподавателями.
Во время студенческих забастовок?
Л.Н. Да, у нас, ассистентов, было в то время много возможностей. Я вспоминаю одно студенческое собрание, которое состоялось весной 1968 года: его участники требовали, чтобы в университетском совете были в равной мере представлены преподаватели, аспиранты и студенты. Преподаватели, разумеется, были решительно против, ведь для них это означало развал традиционной университетской системы. Студенты, наоборот, заявляли, что трехсторонний совет — это еще минимальное требование. Я придерживался умеренной позиции, но эксперимент с трехсторонней системой казался мне вполне осуществимым. Поэтому, когда напряжение в зале сделалось невыносимым, я предложил создать специальную комиссию по реформам и с помощью нее утвердить трехсторонний совет: если преподавателям эксперимент покажется неудачным, они могут обратиться в комиссию, в противном случае, она должна стать постоянно действующим органом. Предложение понравилось, и, не успел я оглянуться, как меня уже выбрали председателем этой комиссии. Так мы стали вторым после института Отто Зура в Берлине
«Мы» — это Бохумский университет?
Л.Н. Да, и основную роль в этом сыграл исторический факультет. Я считаю трехстороннюю систему университетского управления нашим большим достижением, хотя теперь об этом мало кто помнит. Вся слава досталась Гейдельбергу, Франкфурту и Мюнхену, пожалуй, еще Бремену, а остальные университеты, будто бы и вовсе не участвовали в событиях 1968 года. Но на самом деле это не так, более того, мне кажется, что толку от маленьких университетов в те времена было гораздо больше. Сейчас, к примеру, много говорят о связях рабочего и студенческого движения, а в нашем университете действительно были такие связи, мы даже устраивали совместные акции и ходили на общие демонстрации. Я был убежден, что работая в этом направлении, мы могли бы принести гораздо больше реальной пользы: например, добиться долгожданных перемен в косном послевоенном обществе. Во всяком случае, подобная деятельность казалась мне гораздо более осмысленной, чем бесконечные и, признаться, довольно бессмысленные идеологические баталии тех лет. Впрочем, я, по мере возможности, старался в них не участвовать, и довольствовался скромной ролью посредника между разными идеологическими группировками. Надо сказать, что я был вполне признан в этой роли, и ко мне часто обращались лидеры самых разных студенческих групп. Пожалуй, среди радикалов наиболее разумными были троцкисты, они, по крайней мере, вызывали у меня больше симпатии, хотя сам я отнюдь не был левым.
Вообще, в нашем университете тогда многое изменилось. Например, в мои студенческие времена все носили галстуки и обращались друг к другу исключительно на «Вы». А тут вдруг пропали и «Вы», и галстуки, и отношения полов стали гораздо свободнее. В воздухе запахло переменами, и сама жизнь стала интересней и насыщенней. В 1968 году у меня родилась дочь. Моя первая жена училась в то время на юридическом факультете в Гейдельберге. Мы оба были убежденными социал-демократами, но она, в отличие от меня, происходила из вполне благополучной в идеологическом плане семьи: ее отец, хоть и не участвовал в сопротивлении, но был убежденным антифашистом. Наш брак, увы, вскоре распался, и думаю, не последнюю роль в этом, сыграло то, что она с маленьким ребенком на руках не могла, да и не хотела участвовать в нашей лихорадочной университетской деятельности, я же, напротив, целыми днями пропадал на факультете, а по ночам садился за диссертацию, работа над которой у меня слишком затянулась.
Как вы считаете, почему сейчас все в один голос ругают поколение 68-ого года?
Л.Н. Видите ли, сам я довольно нетипичный представитель этого поколения. А в глазах большинства, поколение «ахт-унд-зехцигер» — это сплошь радикально настроенные леваки-студенты, участники так называемых К-групп.
Т.е. коммунистических фракций?
Л.Н. Да, причем по большей части маоистского толка. Ну и РАФ
Слишком быстро по теперешним временам.
Л.Н. Не только по теперешним, но даже и по тем временам. Дело в том, что в силу изменившихся обстоятельств — открытия новых университетов и кафедр — мы оказались на профессорских должностях довольно рано, и соответственно, занимали их гораздо дольше, чем принято в немецкой академической практике. Так что новому университетскому поколению пришлось в прямом смысле стоять в очереди за место на кафедре. Многих это злило, ведь они не без оснований считали себя гораздо образованней, а в нас видели оппортунистов, получивших свои должности только благодаря тогдашнему хаосу и неразберихе.
Такое отношение младшего поколения спровоцировало у старших чрезмерную рефлексию. Началось повальное увлечение методологией, которое в меньшей степени затронуло нас, историков, зато расцвело пышным цветом среди социологов и педагогов-теоретиков. Думаю, историки вообще не любят абстрактных рассуждений о методе. Во всяком случае, по сравнению с другими нашими коллегами гуманитариями, мы несколько больше связаны с миром. Чего не скажешь, например, о социологах и литературоведах, которые в те времена писали довольно странные вещи — местами очень интересные, но страшно эзотерические.
Так что мода на разного рода методологические исследования была вызвана этим своеобразным конфликтом академических поколений, когда старшие делали карьеру слишком быстро, а младшие слишком медленно. Отношения осложнялись еще и тем, что старшие, стоило им уйти на пенсию, стали немедленно вспоминать о страданиях, пережитых ими во время войны. Тут уж младшие не на шутку разозлились: конечно, сидели тут тридцать лет, занимая наши места, а теперь еще и жалуются на трудное детство. Отчасти поэтому споры о страданиях немцев и особенно немецких детей во время войны приняли в нашей среде такой ожесточенный характер. Впрочем, как я уже говорил, мне все это глубоко чуждо. Дело в том, что я сознательно никогда не причислял себя к какой-либо группе, будь то социальной или политической. Даже в университете, когда был председателем комиссии по реформам, я всегда старался заниматься исключительно конкретными вопросами: такими, которые приходилось решать всем, независимо от партийной принадлежности и политических убеждений. При этом сам я никогда ни в одну из университетских группировок не вступал. Меня считают социал-демократом, однако в партии я никогда не состоял, хотя в профсоюзах участвовал. Впоследствии я даже возвел это в принцип: историк не должен быть партийным.
Верно ли утверждение, что именно ваше поколение впервые смогло дать верную оценку прошлому и таким образом способствовало его «проработке»?
Л.Н. Это важный вопрос. Пожалуй, да. Но эта «работа над прошлым» началась еще гораздо раньше. Когда я учился в гимназии, то восхищался героями сопротивления: участниками группы «Белая роза»
А откуда вы о них узнали?
Л.Н. Главным образом из книг. Тогда печаталось довольно много литературы о сопротивлении, в основном героического толка. Главная идея этих книг заключалась в том, что человек всегда может поступить по совести вне зависимости от своих политических убеждений. У меня сложилось ложное впечатление, что все участники заговора «20 Июля» были борцами за демократию. Позже, благодаря Моммзену, я узнал, что на самом деле многие из них мечтали вовсе не о демократии, а об очередном авторитарном режиме, и что сами эти движения возникли не столько в силу политических причин, а скорее как своего рода «бунт совести». Так, между прочим, называлась одна популярная в то время бесплатная брошюра о сопротивлении. Кроме того, было еще издание под названием „Rothfels Sache“ («Дело Ротфельза») — настольная книга всех интересующихся политикой школьников. Разумеется, мы читали и более серьезные сочинения, к примеру, два тома „Die Zerstörung der deutschen Politik“ («Крах немецкой политики»), выпущенные Гарри Проссом, будущим главным редактором Радио-Бремен, и Голо Манном; а еще изданную Вальтером Хофером подборку официальных нацистских документов, которая вышла в карманном формате в издательстве Фишер.
Вопреки бытующим мнениям, вытеснение нацистского прошлого в 50-ые годы никогда не было вполне сознательным. Хочешь узнать правду, бери книгу и читай, вот только решиться на это было не так-то просто. Ведь все понимали, почему родители упорно молчат о том времени. В конечном счете, их молчание только усугубляло наши подозрения, и скелеты мерещились нам в каждом родительском шкафу.
Так что мы, как могли, пытались разобраться с нацистским прошлым наших родителей, и важную роль при этом играли возникшие тогда независимые молодежные организации, такие, например, как наш городской совет школьных старост, где я некоторое время был ответственным за прессу, или школьная газета, где я тоже активно подвизался. В общем, все, как у больших. Но надо признать, что эти игры помогали отвлечься от унылой послевоенной действительности, и в конечном счете, способствовали пробуждению у нас гражданского сознания. Между прочим, я был одним из первых немцев, отправившихся в Израиль работать в кибуце. Это тоже было довольно характерно для моего поколения.
Как раз собиралась спросить, как и когда вы впервые узнали о холокосте?
Л.Н. Об Освенциме я узнал еще в детстве, но не мог толком представить себе ни масштабов, ни методов, которыми осуществлялось массовое уничтожение евреев.
А откуда узнали, из послевоенных фильмов?
Л.Н. Скорее, из книг. Я, по-моему, уже упоминал вышедшую тогда большую подборку документов третьего рейха. Кстати, я был в Израиле как раз во время процесса над Эйхманом. Тогда же в 1961 году познакомился с моей первой женой.
Вы вместе работали в кибуце?
Л.Н. Да, три недели мы провели в кибуце, а потом просто ездили по стране. У нее были знакомые в Тель-Авиве, владельцы небольшого издательства, как и она, родом из Бреслау. Дело в том, что родители моей жены, в отличие от моих, всегда поддерживали связь со своими иммигрировавшими еврейскими друзьями.
Тогда я как раз изучал теологию и, конечно, у нас был курс древнееврейского языка. Вообще, наша поездка задумывалась как своего рода паломничество, мы хотели лучше понять этот народ, столько переживший по нашей вине. Разумеется, в действительности все оказалось не совсем так, как мы себе представляли. Принимавшая нас дама из кибуца, светловолосая и голубоглазая, не только выглядела как типичная девушка из «Союза немецких девушек», но и рассуждала почти как они. Дело в том, что наш кибуц находился на так называемых охраняемых территориях, т.е. палестинцы жили там под полным военным контролем израильтян. Все это, мягко говоря, не соответствовало нашему, совершенно идеализированному, представлению о евреях и Израиле. Кроме того, местные палестинцы казались нам более экзотичными, чем израильтяне. Так что мы часто наведывались в их весьма живописные маленькие поселения, и один раз даже получили приглашение на свадьбу. К большому неудовольствию наших кибуцников, которые все спрашивали, зачем эти немцы ходят к палестинцам.
Но несмотря на все разочарования, это была первая и, возможно, единственная в моей жизни настоящая образовательная поездка. Потом, правда, я получил очень престижную стипендию, и решил на эти деньги съездить в Польшу. В те времена в восточную Европу никто особенно не ездил. А мы собрали группу студентов с разных факультетов и отправились в Польшу. Принимал нас один польский врач, который организовал нам небольшой тур по стране. Наше путешествие длилось две или три недели; мы побывали в Варшаве, Познани и, конечно, Освенциме.
Когда это было? В середине шестидесятых?
Л.Н. В 63 или 64, точно не помню.
А почему вы решили изучать теологию?
Л.Н. Сам не знаю. Ведь я никогда не хотел быть пастором. Должно быть, все дело в моей тетушке, которая была, как я уже говорил, ревностной католичкой, но отнюдь не святошей, а напротив, женщиной трезвой и прекрасно образованной. Два раза в жизни она даже позволила себе влюбиться: один раз в своего научного руководителя, впрочем, он оказался женат, а другой — (чтобы уж наверняка ничего не получилось) в аббата. Помню, как она в детстве таскала меня по католическим монастырям. Но зато благодаря этому у меня возник живой интерес к религии.
Любопытно, что именно к религии, а не философии.
Л.Н. Вообще-то я в юности хотел стать журналистом. Я тогда был председателем молодежного пресс-клуба, редактировал школьную газету, и даже писал тексты для радиопередач. Кстати, во время учебы это был мой главный заработок, потому что я нарочно не хотел, чтобы отец оплачивал мое образование, хотя он, конечно, не стал бы возражать, тем более что вполне мог позволить себе такие траты. В результате этой деятельности я завел множество знакомств среди журналистов, и все они в один голос говорили мне: не поступай на журналистику, там тебя все равно ничему не научат. Лучше получи какое-нибудь солидное образование, и занимайся тем, что тебе интересно, а в журналисты переквалифицироваться всегда успеешь. Вот я и решил выбрать самую непрактичную из всех возможных дисциплин — теологию. Потому что, во-первых, меня действительно интересовала религия, а, во-вторых, я твердо решил заняться чем-нибудь гуманитарным. Как ни странно, отчасти в силу своей природной застенчивости и неуверенности в себе. Будь я на три года младше, непременно стал бы психологом. Но тогда я пытался излечиться от мучивших меня комплексов посредством теологии. Возможно, все дело в моей неспортивности, но в подростковом возрасте я казался себе недостаточно мужественным. Так что работа в газете и школьном совете оказались как нельзя кстати, потому что и то, и другое помогало справиться со стеснительностью.
Таким образом, несмотря на увлечение журналистикой, я все же решил изучать теологию, причем не как сопутствующую дисциплину, а в полном объеме со всеми мертвыми языками. Для этого мне пришлось за год до поступления записаться на курсы древнегреческого и древнееврейского языков, вместе со мной эти курсы посещали начинающие пасторы — публика совершенно для меня чуждая, поскольку священником становиться я уж точно не собирался. Однако сами занятия доставляли мне большое удовольствие, особенно древнееврейский, хотя учили мы его тогда не лучше, чем теперешние студенты — латынь. Что, впрочем, не помешало мне засесть за собственный перевод одной из библейских книг — получилось нечто экзальтированное в духе Мартина Бубера
Не было ли это еще и неосознанным, или наоборот, совершенно осознанным отказом от родительских ценностей?
Л.Н. Разумеется. Только я отказался от них еще гораздо раньше.
Когда начали изучать теологию?
Л.Н. Да, и древнееврейский. Меня он завораживал своей непохожестью на европейские языки, странной грамматикой и тем, что читать нужно справа налево. Мне хотелось лучше узнать эту экзотическую для нас культуру, вот я и отправился в Израиль, хотя в те времена немцы старались туда не соваться. Конечно, представления у меня были, как я уже говорил, совершенно идеализированные…
Это была своего рода идеализация жертв?
Л.Н. До некоторой степени. Кроме того, во время учебы в Гейдельберге я занимался главным образом Ветхим Заветом, а еще читал Мишну
Я вовсе не хочу сказать, что выбрал теологию только для того, чтобы получить освобождение от армии (все-таки к тому моменту я уже год изучал древние языки), с другой стороны, подобная перспектива не могла меня не радовать, хотя я отлично понимал, что получил отсрочку незаслуженно, поскольку никогда не собирался становиться священником. Одним словом, теологией я занялся из чистого любопытства, но был не прочь получить от этого хоть какую-то практическую выгоду.
Так как же вы все-таки стали историком?
Л.Н. Вначале я занимался и тем, и другим, т.е. я прослушал полный курс на теологическом факультете, а, кроме того, еще несколько дополнительных курсов по истории средних веков и нового времени. Древней историей я не занимался, поскольку считал, что мне вполне достаточно Ветхого Завета. Потом я как-то незаметно для себя увлекся новейшей историей и довольно быстро примкнул к исследовательской группе Конце
Я тогда написал работу о книге Иова, это был, как сейчас помню, литературоведческий анализ ее последних глав. За эту работу меня и выдвинули на стипендию. Причем собеседование проводил сам Юрген Хабермас.
Он лично вас интервьюировал?
Л.Н. Он и еще один профессор. На основании этого собеседования они должны были дать мне характеристику. Кажется, в ней было написано, что студент я способный, но недостаточно мотивированный (не смог объяснить, почему, собственно, я занимаюсь теологией). Мне отказали, и я решил уйти. В общей сложности я проучился на теологическом факультете 7 семестров, не считая двух, проведенных на языковых курсах. В том же году я поступил младшим ассистентом к профессору Конце. Вокруг него собиралась чрезвычайно любопытная компания ученых-историков, в которую я вполне успешно влился.
Помимо неудачи со стипендией, была еще одна причина, заставившая меня отказаться от теологии. Дело в том, что первая, так называемая экзегетическая, часть курса посвящена древней истории, истории церкви, и собственно экзегезе, т.е. толкованию текстов. Всем этим я с удовольствием занимался. А вторая посвящена педагогике, которой я не особенно интересовался, и догматической теологии, которая мне не нравилась. Помню, нам ее читал Эдмунд Шлинк, отец известного современного писателя
Впрочем о годах, проведенных на теологическом факультете, я никогда не жалел, более того именно теология научила меня внимательному чтению. Можно сказать, я к каждому тексту отношусь как к священному писанию: подмечаю малейшие детали, а затем, как истинный протестант, подвергаю их скрупулезному критическому анализу.
Что же касается социологии, то многие мои коллеги историки по привычке заходят в нее как в лавку готового теоретического платья, а мне она открыла новый научный мир, причем во всех смыслах: ведь большинство моих друзей занимались именно социальными науками. Думаю, я увлекся Устной историей, именно потому, что в ней присутствуют оба этих важных для меня элемента: социологический и экзегетический.
К Устной истории мы еще вернемся, но я хотела спросить вас вот о чем: насколько я поняла, среди ваших учителей и университетского окружения было много старых нацистов. Скажите, как сами они относились к своему прошлому? Раскаивались ли, признавали ли ошибки?
Л.Н. Трудный вопрос. Например, я целый семестр ходил на лекции к старику Шидеру
В каком году это было?
Л.Н. Работать над книгой я начал где-то в 1968-69.
А как вы объясняли себе тот факт, что в 30-ые годы эти культурные и образованные люди увлеклись нацистскими идеями?
Л.Н. Этого я никак не мог понять. Тогда даже в нашем маленьком университетском мирке все казалось слишком запутанным.
Так вам удалось найти ответ на этот вопрос?
Л.Н. Думаю, я искал его всю жизнь. Во всяком случае, обе мои главные книги «Постистуар» (1989) и «Коллективная идентичность» (2000) именно об этом: об отношениях интеллектуалов и власти, о психологическом механизме приспособленчества и тому подобных вещах. Так я пытался осмыслить и свой собственный юношеский опыт. Но чтобы понять, как могла наша интеллектуальна элита поддаться нацистскому соблазну, надо и для себя допустить такую возможность. В этом смысле я менее категоричен в своих моральных оценках, чем некоторые мои коллеги философы, пишущие на ту же тему. У меня дурные человеческие импульсы вызывают любопытство, они же считают их не заслуживающей внимания, моральной девиацией, исследование которой все равно не приведет ни к чему хорошему.
У вас необычайно широкий круг научных интересов, разнообразие тем, которыми вы занимались, просто поразительно. Мне кажется, такое нежелание останавливаться на каком-то одном историческом сюжете чрезвычайно характерно для историков вашего поколения. Например, как случилось, что вы занялись Устной историей?
Л.Н. На то было много причин. Однажды к нам приехал один американский знакомый-историк. У себя в Америке он участвовал в одном исследовательском проекте — брал интервью у ветеранов американской политики. Он настойчиво советовал нам сделать то же самое в Германии — взять интервью у отцов-основателей немецкой демократии.
Это было в начале семидесятых?
Л.Н. То ли в 1975, то ли в 1974, точно не помню. Я тогда занимался довольно узкой темой — вопросами жилья для рабочих в Англии, Франции и Германии, у меня уже были собраны основные материалы, когда я вдруг решил все бросить. В то время я как раз стал профессором и чувствовал, что на новую большую тему у меня не хватит сил. Кроме того, после более близкого знакомства с рабочим движением, я понял, что все это левое теоретизирование, хоть и увлекательно само по себе, но имеет мало отношения к действительности. К тому же многие требования, которые наши леваки-студенты выдвигали в 1968, так и остались требованиями на бумаге. Потому, между прочим, что основывались они на политических теориях семидесятилетней давности, которые, на мой взгляд, давно нуждались в проверке реальностью. И тогда, вместо того, чтобы спокойно сесть за докторскую, как это сделали многие мои коллеги, я отправился на два месяца в Америку, где объехал все центры Устной истории.
Американцы были пионерами в этой области?
Л.Н. Думаю, да. В Америке я первым делом отправился в библиотеку Колумбийского Университета, директором которой впоследствии стал известный американский профессор Рон Грил, учредитель одного из самых престижных тамошних институтов устной истории. Тогда основная работа в этой области велась при так называемых «президентских библиотеках». После визита в Колумбийский университет я отправился в путешествие по всей стране и объездил ее вдоль и поперек, а по возвращении написал большую статью об устной истории в Америке. В статье говорилось, в частности, что Oral history — очень интересное и продуктивное направление в исторической науке, но американцы, во-первых, слишком доверчиво относятся к устным свидетельствам, а во-вторых, опрашивают почти исключительно людей знаменитых, причем с явной целью соорудить из этих интервью мемуары. Я же, напротив, был убежден, что самые лучшие свидетели, как раз те, чьи голоса не слышны: жертвы репрессий, рабочие, крестьяне, деревенские жители и др. Однако и к их рассказам следовало относиться как к любому другому историческому источнику, т.е. предельно критически, ведь человеческая память несовершенна и к тому же избирательна. Вообще, на мой взгляд, проблема памяти в контексте Oral history заслуживает отдельного изучения, чем американцы в то время вовсе не занимались. Наконец, — и это особенно актуально в странах переживших диктатуру, — интервью следовало проводить так, чтобы все сказанное опрашиваемым можно было использовать против него, т.е. чтобы логические несоответствия в его рассказе были легко обнаруживаемы исследователем. И, разумеется, всякое интервью, вне зависимости от того, что конкретно вас интересует, непременно должно начинаться с биографии. И хотя у американских и английских коллег не было такой практики, мне самому это казалось крайне важным особенно, когда речь шла о новейшей европейской истории. Я в свое время написал 1300-страничную диссертацию о том, как проходила денацификация в Германии, и не понаслышке знаю, как можно незаметно подкорректировать собственную биографию. Для этой и еще одной работы об антифашистском движении мне пришлось взять множество интервью с разными немецкими политическими деятелями, кстати, пользовался я при этом не магнитофонными записями и расшифровками, а по старинке блокнотом. Признаться, эти интервью оказались сплошным разочарованием: столь сильна у наших политиков привычка ко лжи, что добиться от них правдивого рассказа было решительно невозможно. Поэтому я считаю интервью с политиками пустой тратой времени, лучше опрашивать тех, кто не никогда не напишет мемуары.
Скажите, вы одновременно занимались и практической, и теоретической работой? Т.е. брали интервью и исследовали механизмы исторической памяти?
Л.Н. Я с самого начала понимал, что для Устной истории нужна теоретическая база. Вначале мы выработали некоторую пробную стратегию и придерживались ее, двигаясь, так сказать, на ощупь. Постепенно в процессе интервьюирования у меня начало складываться некоторое представление о том, что такое память и как она функционирует. В какой-то мере мы могли опираться на работы Хальбвакса
Перед тем, как стать профессором, я год прожил в Англии, участвовал в проекте под названием History Workshop. Там я познакомился с историком Полом Томпсоном
Потом уже в Германии мы создали исследовательскую группу, и написали большую книгу об антифашистском движении. Характерно, что в школьные и студенческие годы я всегда был одиночкой, а в семидесятые мы все вдруг принялись работать в группах. Вместо отдельного маленького «я» появились «мы», объединенные не политическими, а исследовательскими интересами. Тогда вообще была мода на коллективную работу, но во многих случаях из нее либо вовсе ничего не получалось, либо получалась ерунда. Потому что участники таких коллективов, как правило, заранее знали ответы, на вопросы, поставленные в их так называемых «исследованиях». А наша группа, состоявшая главным образом из историков, занималась реальным научным поиском. В первом нашем большом проекте по Устной истории участвовали восемь человек. Каждую неделю мы собирались и анализировали собранные интервью, т.к. главным для нас была работа с источниками.
Т.е. самым важным для вас была именно интерпретация устных свидетельств, а не их механическое собирание? Ведь в 1970-ые появилось множество проектов, участники которых собирали интервью и публиковали их в сыром неоткомментированном виде. Что, по-моему, не шло на пользу науке.
Л.Н. Вы правы. Тогда действительно было множество разных проектов и исследовательских групп, с некоторыми из них мы периодически сотрудничали. Основных тенденций было две. Первая, наиболее плодотворная, возникла как своего рода демократический импульс в исторической науке, т.е. отныне история должна была писаться «снизу», основываясь на свидетельствах обычных людей; а вторая, спорная, с моей точки зрения, тенденция, заключалась в формуле: «давайте поможем народу обрести язык» (как говорили тогда во Франции). Это означало, что задача историка — именно собирать и публиковать, а не интерпретировать источники. Но мне такая установка кажется ошибочной, ведь Устная история не обслуживает народ или какие-то отдельные социальные группы, а исследует то, что с ними произошло, обращаясь при этом не к одному большому связному нарративу, а к разрозненным воспоминаниям и впечатлениям, к тем причинно-следственным связям, которые возникают в головах у исторических свидетелей. Но помимо этих так называемых малых нарративов, важную роль для изучения механизмов памяти могут играть вещи, на первый взгляд, незначительные: память на запах, например (помните, как это описано у Пруста?); или память тела, когда рабочий 20 лет спустя может во время интервью в точности воспроизвести все движения, которые он делал, работая на своем станке.
Таким образом, для Устной истории важны две вещи: во-первых, всегда надо иметь в виду, что человеческая память разнообразна и необычайно сложно устроена. А во-вторых, вступать в коммуникацию с носителем этой памяти, т.к. именно коммуникация стимулирует процесс воспоминания. Поэтому я считаю неправильным выдавать полученные в результате интервью свидетельства за непреложный исторический факт. Я убежден, что многие исследования зашли в тупик именно из-за этой ошибочной установки.
Важным препятствием для исследователя могут стать его собственные предвзятые мнения. Как это было у меня с моими профессорами, бывшими нацистами. Иногда у интервьюера даже возникает личная симпатия к респонденту, несмотря на отрицательное отношение к его взглядам. Вообще же, всякий опыт непосредственного общения с интервьюируемым потенциально может привести к тому, что мы в нашем проекте называли «эффектом разрушения стереотипа». Если эффект повторяется в нескольких интервью, значит вы на правильном пути, и возникающая перед вами картина убедительна. Поэтому мы предпочитали задавать вопросы, требовавшие конкретных ответов, например: где вы были 17 июня 1953-го года? Или как выглядел первый оккупационный солдат, которого вы увидели в 1945-ом? Таким образом мы могли работать с множеством различных данных, полученных посредством разных каналов восприятия, а заодно исследовать его механизмы. Мне кажется, это и есть самое интересное в нашей работе, а еще изучение биографии на фоне исторических событий. Например, во время нашего первого исследования мы взяли интервью у одной женщины из католической рабочей семьи; во время войны она командовала прожекторным батальоном, не раз оказывалась под бомбежками, и вообще пережила, бог знает, что. Но вела себя очень мужественно и даже получила офицерское звание. А после войны вдруг стала пацифисткой, социал-демократкой и членом производственных советов. Парадоксальным образом получается, что пережитое ею во времена нацизма стало своего рода подготовкой к ее будущей антифашистской деятельности. Нас, как исследователей, тогда особенно поразила эта способность людей, даже в такие страшные времена и при таких режимах, собираться с духом и менять собственные убеждения. Помню, как мы неделями сидели у себя в Эссене разбирали это интервью и спорили. Оказалось, мы с самого начала исходили из не вполне верного представления о том, что такие люди, как наша собеседница, должны были быть гораздо более убежденными носителями идеологии, а тут мы увидели, что в их сознании могли умещаться самые разные вещи. Т.е. идеология, конечно, оказывала свое влияние, но был ведь еще и конкретный жизненный опыт.
В конце восьмидесятых, т.е. накануне падения стены, вы осуществляли большой проект, посвященный ГДР
Л.Н. Мы взялись за этот проект по двум причинам: во-первых, нас интересовало, каким образом люди с общим прошлым приспосабливались к совершенно разным политическим системам — западногерманской демократии и гдр-овскому так называемому социализму. Ведь у себя в Западной Германии мы уже имели возможность наблюдать, как сознание, сформировавшееся во многом под влиянием нацизма, постепенно трансформируется в новых демократических структурах; и мы хотели понять, каким образом носители того же самого нацистского опыта приспосабливаются к совершенно иному политическому режиму. Я удивляюсь, что мои старшие западногерманские коллеги, т.е. те, кто еще был в гитлерюгенде (их в Германии называют «поколением Flakhelfer»
А вторая причина, почему я взялся за этот проект, заключалась в том, что нам,— и в этом характерная черта моего поколения, — до всего было дело. Нас волновала судьба Израиля и участь ГДР, восточная Европа и события в Праге. Вообще, горизонты нашей личной ответственности были в те времена гораздо шире, чем у сегодняшних молодых.
А как вы относились к ГДР?
Л.Н. Для меня ГДР была совершенная terra incognita, поскольку ни родственников, ни друзей у меня там не было. А что касается режима, то он был мне, человеку либеральных убеждений, столь же несимпатичен, как и все его авторитарные собратья. Несмотря на это, я несколько раз побывал в ГДР, например, в 1984, когда меня пригласили на конференцию по антифашизму (тогда они впервые стали приглашать западных немцев на подобные мероприятия). На этой конференции я познакомился с одним известным гдровским историком и мы, выпив несколько лишних рюмок, решили организовать совместную исследовательскую группу. Это был новый для меня опыт, поскольку в ГДР я увидел явное несоответствие между «формой и содержанием», между унылым авторитарным режимом и живыми, интересными людьми. Однако, когда мы закончили наш восточногерманский проект, ГДР благополучно рухнула, и западное общество потребовало от восточных немцев, чтобы те, как могли, приспосабливались к новой ситуации. Таким образом, с исчезновением ГДР у нас практически не осталось материала для исследования, а в прежние времена нам было интересно наблюдать, как восточные немцы взаимодействуют с режимом. К примеру, у тамошней интеллигенции со временем выработался особый коммуникативный код и особая стратегия, как высказать свое мнение, не переходя при этом опасной черты. Кстати, с точки зрения социолингвистики это тоже было весьма интересно. Но с крушением ГДР мы лишились возможности наблюдать подобные явления. Возвращаясь к вашему вопросу, могу сказать, что ГДР вызывало у меня, в первую очередь, живейшее любопытство.
Похоже, в Устной истории любопытство играет совершенно особую роль?
Л.Н. Да, в этом я глубоко убежден. Причем, парадоксальным образом, чем меньше знаешь о будущем предмете своего исследования, тем интереснее работать. Например, — я сейчас несколько утрирую, но все же, — я совершенно не представлял себе рабочее движение и рабочую среду до того, как занялся этой темой. То же самое было и с ГДР. Дело в том, что в Устной истории всегда присутствует некая этнографическая компонента, интерес к «неисследованным народам», только в нашем случае «неисследованные народы» — это те самые молчащие социальные группы, о которых я говорил выше. Между прочим, в нашем первом проекте этнология играла довольно значительную роль. Мы контактировали тогда с группой швейцарских этно-психологов во главе с Марио Эрдхаймом
Не кажется ли вам, что многие студенты, занимающиеся Устной историей, считают интервью самой легкой частью исследования, и часто путают его то с соцопросом, то с обычным журналистским интервью. Насколько мне известно, именно благодаря вашим исследованиям стало очевидно, что устное свидетельство само по себе не может являться историческим источником, а делается таковым только в результате всестороннего анализа, в том числе психологического, поскольку речь идет о человеческой памяти.
Л.Н. Видите ли, Устная история — это как раз та область, где должны взаимодействовать различные гуманитарные дисциплины. Мода на междисциплинарные исследования возникла еще в 70-ые годы, когда границы между разными гуманитарными науками перестали быть такими четкими. Это было связано еще и с тем, что все устали от абстрактного, далекого от реальности теоретизирования, и что традиционная социология, да и вообще большинство гуманитарных дисциплин, находились тогда в глубоком кризисе. Вот мы и решили, что надо по мере сил объединяться и у каждого брать что-то ценное: у лингвистов, у тех же социологов, да у кого угодно. Кстати, социологи, в свою очередь, тоже кое-чем обязаны историкам: именно благодаря нам они пересмотрели некоторые свои взгляды, к примеру, на традиционный соцопрос; заново открыли так называемый качественный (в противоположность количественному) метод в социологии, тогда же возникла и объективная герменевтика
А раньше в этом не было необходимости?
Л.Н. Нет, раньше мы занимались этим просто из интереса.
Тогда устная история как раз была новинкой. Возникло множество новых теорий, которые пытались создать некую общую схему функционирования человеческой памяти. Вы активно полемизировали с ними в ваших книгах «Постистуар» и «Коллективная идентичность». А как вообще возник замысел написать «Постистуар»?
Л.Н. Я обратил внимание, что среди моих коллег-социологов «постистория», иначе говоря «конец истории», — это весьма распространенный диагноз, ставимый западному обществу. Выходит, мы, историки, каким-то образом прозевали гибель собственного предмета. Меня всегда занимали такого рода наивные суждения, и я решил выяснить, откуда собственно взялся сам термин «постистория». Оказалось, что существует «правый» и «левый» вариант этой странной теории, и что в 80-ые представители обоих направлений принялись активно друг на друга ссылаться. А тут еще возник Фукуяма, так что эта тема сразу стала чрезвычайно популярна в Америке (Впрочем, моя книга вышла еще до того). В «Постистуар» я сделал одно важное наблюдения, что в основном эту теорию исповедуют интеллектуалы посттоталитарной эпохи, причем речь идет о фигурах весьма значительных, вроде Александра Кожева
Проще говоря, если они в данном конкретном случае ошиблись, то значит, истории не существует как таковой?
Л.Н. Суть в том, что они не хотели признать своих ошибок и винили во всем внешние обстоятельства. Однако, с моей точки зрения, даже в теории «постистории» есть кое-что любопытное. Я вообще считаю, что и от заблуждения может быть польза, если понимать, на чем оно основано. Вот я всю свою жизнь вел полемику с Карлом Шмиттом. Кстати, отличный пример того, как можно восхищаться человеком, совершенно ему не симпатизируя. Шмитт, между прочим, не только на немцев, но и на американцев и итальянцев производил сильное впечатление. Меня же всегда интересовала природа этого гипнотического эффекта. Но чтобы понять эту природу, недостаточно просто здравого смысла или отвлеченной теории, тут необходим конкретный биографический подход, который лежит в основе Устной истории. Т.е. методы, которые мы развили, изучая биографии представителей самых разных слоев населения, применимы и к интеллектуальной элите.
Что касается моей книги «Коллективная идентичность», то она, как и ее предшественница, представляет собой нечто вроде истории заблуждения. Дело в том, что в какой-то момент термин «коллективная идентичность» стал необычайно популярным (особенно в Америке и недавно объединившейся Германии), причем каждый понимал его по-своему, но всем он казался чрезвычайно содержательным. В Америке им охотно пользовались всевозможные маргиналы, сторонники так называемой identity politics (политики идентичности), а в многочисленных статьях о collective identity (коллективной идентичности), этот термин употреблялся почти исключительно как эвфемизм, т.е. вместо «национализм» говорили «коллективная идентичность». Чтобы понять, откуда взялось и само понятие, и связанные с ним представления, необходимо было проследить его историю. Этот термин возник где-то между 1916 и 1932 годом, тогда о «коллективной идентичности» этнических или религиозных групп писали Лукач, Шмитт и Фрейд с Юнгом, а кроме того Хальбвакс и Олдос Хаксли. Причем под «этнической группой» обычно подразумевались евреи. Одни утверждали, что коллективную идентичность надо скрывать, другие, что с ней надо бороться. Вообще же, в науке того времени не существовало никакой самостоятельной теории «коллективной идентичности»,— только термин. Но у всех было ощущение, что за ним скрывается нечто важное, чего нельзя сказать прямо. У меня сложилось впечатление, что коллективная идентичность — это такой научный фиговый лист. И поскольку каждый понимает этот термин по-своему, наладить с его помощью научную коммуникацию решительно невозможно. Об этом я и писал в своей книге.
Давайте теперь снова вернемся к Устной истории. Как вам кажется, какое влияние оказывают на нее современные технологии. Я имею в виду, что в наши дни благодаря распространению интернета тех самых «молчащих групп», о которых вы говорили и которыми занимается Устная история, остается все меньше. Ведь теперь практически каждый имеет возможность публично высказаться, например, в собственном интернет-дневнике. И если речь идет о свидетеле эпохи…
Л.Н. Видите ли, я считаю, что его вообще не существует, этого так называемого свидетеля.
Мой следующий вопрос как раз об этом. Дело в том, что в России мы наблюдаем настоящую катастрофу памяти: люди стараются вытеснить все трагические воспоминания о советском прошлом. Иногда кажется, что усилия наших историков и публицистов по сохранению памяти о терроре и репрессиях пошли прахом. Некоторые даже утверждают, что нежелание помнить прошлое — это свойство русского менталитета. Очевидно, что при таком состоянии коллективной памяти любые свидетельства очевидцев приобретают особую значимость. Что вы об этом думаете?
Л.Н. Я считаю само понятие «свидетель эпохи» фикцией, ну или, по крайней мере, искусственной конструкцией, порожденной немецкой наукой. То же касается и термина «Zeitgeschichte», который не возможно точно перевести ни на один из известных мне языков. Не знаю, правда, насчет русского.
По-русски тоже не существует точного эквивалента.
Л.Н. Думаю, это не случайно. С моей точки зрения, бывают интересные биографии и бывают свидетели разных исторических событий, но только не эпохи как таковой. Ведь эпоха есть не что иное, как время, а время — это континуум. Так вот, нельзя быть очевидцем времени, а лишь определенного (очень небольшого) его отрезка. Мне термин «свидетель эпохи» не нравится еще и потому, что в Германии он имеет совершенно конкретный идеологический смысл: им, как правило, обозначаются жертвы холокоста, причем подразумевается, что они стали свидетелями событий столь немыслимых, что мы должны, не задавая вопросов, молча выслушать их рассказы. Они свидетели эпохи в том смысле, что на их долю выпало пережить самые главные и страшные ее события. Однако это не значит, что мы не имеем права задавать им вопросы: что именно они видели? Как восприняли увиденное? Как осмысляют свой опыт? Скажу больше, я даже одно время имел предубеждение против таких «привилегированных» свидетелей (жертв ГУЛАГа и Освенцима, остарбайтеров и др.), но опыт работы с источниками, т.е. с расшифровками интервью, показал, что многие из них вполне заслуживают доверия, но, конечно, отнюдь не все. Кроме того, интересные для историка биографии встречаются и у самых обычных ни чем не примечательных людей, таких, например, как наша фрау Майер (см.выше). Ведь массы, в конечном счете, складываются из индивидуумов, которым есть, что рассказать непредвзятому слушателю. Но когда мы имеем дело с теми, кто пережил страшные катастрофы, то их рассказы приобретают особый статус предостережения, и наша задача сделать так, чтобы это предостережение было выслушано, даже заставить общество его выслушать, однако мы не должны забывать, что и такие важные свидетельства нуждаются в обязательной проверке. На мой взгляд, сам термин «свидетель эпохи» лишает нас права на критическую оценку. Поэтому многие историки не желают больше слушать этих свидетелей, ведь они в каком-то смысле «отнимают у них хлеб». Например, в большинстве телепередач на историческую тему рассказы очевидцев подаются как непреложная истина, так что специалист-историк оказывается как бы и вовсе не нужен. Конечно, телевидение вечно все упрощает, но я не могу отделаться от впечатления, что выпихивание на первый план очевидцев мешает нашей работе, потому что в результате такое сложное явление, как человеческая память, предстает в весьма примитивном виде. В наших исследованиях мы всегда старались показать, что память по своей природе не обладает единством, что у нее масса разных функций, помимо собственно запоминания, что при работе с ней некоторые из этих функций следует рассматривать комплексно, а в некоторых случаях даже противопоставлять друг другу. Лично я не воспринимаю этих свидетелей как конкурентов, но некоторые из них, признаться, неимоверно раздражают, и, увы, в большинстве случаев я слишком хорошо понимаю причину своего раздражения. Например, не далее как сегодня я участвовал в одном мероприятии, на котором присутствовало много бывших узников. Даже на самый безобидный вопрос они реагировали нервно и подозрительно. Видимо, мысленно возвращаясь в камеру, они вновь оказывались в психологической ситуации, когда у человека нет ничего, кроме собственного «я», так что вместе с воспоминаниями возникает и своего рода эгомания, т.е. вынужденная зацикленность на себе. Конечно, иметь дело с эгоманом-параноиком очень трудно, но мы все же обязаны его выслушать, и вообще научится разговаривать с этими часто неприятными, ищущими признания людьми. И, повторюсь, главный враг историка не очевидец, а безответственные СМИ, выставляющие его напоказ. Просто мы должны помнить, что не бывает свидетелей эпохи, бывают участники событий. Некоторые из этих событий вызывают ужас, но СМИ часто представляют их таким образом, что люди даже испытывают зависть к тем, кто их пережил, поскольку сами не имеют и никогда не приобретут подобного экстремального опыта.
Но если говорить не о свидетелях, а о свидетельствах эпохи, то тут наблюдается некоторая асимметрия: у нас есть множество рассказов жертв, но почти нет рассказов палачей. Ведь вы сами говорили, как важно хотя бы попытаться понять и другую сторону, т.е. виновников преступлений.
Л.Н. Согласитесь, один положительный (хотя, положительным его назвать трудновато) опыт из того, что произошло с нами в 20 веке мы все-таки извлекли, а именно: человеконенавистнические режимы имеют свойство кончаться. И новое поколение может преодолеть прошлое, в том числе и юридическим путем. В качестве примера могу привести деятельность «Людвигсбургского центра по расследованию преступлений национал-социализма». В течение многих лет группа адвокатов работала над тем, чтобы привлечь к суду как можно больше нацистских преступников. При этом они собрали совершенно уникальную коллекцию материалов, состоящую в основном не из протоколов допросов, а из официальных документов. Впоследствии на основе этой коллекции был создан архив, который содержит документы, или копии документов, собранные по всей Европе, начиная с Нюрнбергского процесса и заканчивая относительно новыми материалами. К сожалению, привлечь к суду удалось лишь немногих. Но ведь когда речь идет о массовом уничтожении, любая попытка формально осудить всех, кто несет за него ответственность, неизбежно обречена на провал. Но можно собрать достаточно материалов и свидетельств, чтобы, во-первых, указать на виновных, а во-вторых, попытаться объяснить их действия. Последнее особенно важно, если мы хотим извлечь из прошлого хоть какой-то урок.
Значит, в данном случае не обязательно использовать методы Устной истории?
Л.Н. Чтобы понять и преступников, и их жертв нужно для начала открыть все архивы. Тогда станет ясно, что свидетельства последних отражают совершенно уникальный опыт, но тем не менее, мы не должны относится к этим свидетельствам с чрезмерным, почти религиозным пиететом. Потому что пережитое насилие не делает людей сильней или лучше. Так что в случае жертв методы Устной истории приобретают особое значение. Когда же речь идет о виновных, они играют скорее вспомогательную роль. Поскольку документы сами по себе могут многое рассказать о преступниках, даже в тех случаях, когда по формальным причинам уголовное преследование невозможно. А так бывает сплошь и рядом, когда на смену диктатуре приходит более демократический режим, который, однако, не стремится немедленно осудить всех виновных. В таком случае собранные юридические документы остаются в назидание потомкам.
Вообще, меня очень смущает современная идея «счастливого забвения». По-моему, ничего глупее нельзя вообразить. Когда я, к примеру, оглядываюсь на свою жизнь, то вижу, что интересом к прошлому и к людям я во многом обязан тому внешнему обстоятельству, что союзники насильно заставили нас, немцев, вспомнить все, что произошло с нами за двенадцать лет фашистского режима. Я имею в виду, в первую очередь, осуждение нацистских преступлений на Нюрнбергском процессе.
Этот импульс, данный нам извне, постепенно стал для нас внутренней потребностью. Я вообще считаю одним из важнейших достижений немецкой политики последних десятилетий, что мы, в отличие от многих других стран, не поддались соблазну забвения, но по мере сил стараемся держать глаза открытыми. Мы знаем, что в нас есть и темное начало, и чтобы его сдерживать, нам необходимы разного рода общественные институты.
О каких общественных институтах идет речь?
Л.Н. Я говорю о демократии. Поскольку она обеспечивает гласность и общественный контроль. И понимание этого широкими слоями населения очень важно. Тем более, что мы имели возможность своими глазами наблюдать, что бывает, когда эти сдерживающие институты разрушаются: Германия, к примеру, в свое время считалась одной из наиболее цивилизованных европейских стран, а в итоге именно немцами были совершены самые страшные преступления, которые только можно себе представить. Попытка забыть эти или любые другие преступления, приводит к одному, — ко всеобщему оглуплению и социальной апатии. В результате вместо сознательных граждан получаются какие-то наивные глупцы, которые в следующий раз непременно скажут: мы же ничего не знали. И вообще, по-моему, память о совершенных преступлениях делает людей более ответственными.
Но в сфере общественной памяти существуют ведь и табу. Можно ли преодолеть их с помощью Устной истории?
Л.Н. Лишь до некоторой степени. Я уже говорил, что главная заповедь всякого историка, да и вообще всякого сознательного гражданина страны, пережившей диктатуру: «архивы должны быть открыты», чтобы мы смогли почувствовать на себе все бремя ответственности за прошлое. Если архивы недоступны, то единственное, что у нас остается — свидетельства самих жертв или просто сторонних наблюдателей.
Вообще говоря, с помощью Устной истории никогда нельзя подтвердить или доказать тот или иной исторический факт. Она по своей природе только усложняет и углубляет, но не проясняет картину. Помню, участникам нашего гдр-овского проекта мы задавали один и тот же простой вопрос: как выглядел первый оккупационный солдат, которого вы увидели? Ответы тех, кто в 45ом был в сознательном возрасте, несут на себе явную печать гдр-овских стереотипов о советско-германской дружбе. В результате получается нечто странное вроде: «и тут на нашу землю вторглись полчища друзей». С другой, западногерманской, стороны в ответах ощущалось явное влияние геббельсовской пропаганды: что пришли, дескать, какие-то вырожденцы. Особенно отчетливо разница была видна в тех интервью, которые мы брали в городе Хемнитц, потому что его западные районы были заняты американцами, а восточные — советскими войсками. Совершенно иначе отвечали, те, кому в 45 было лет 8-10. Это поколение в меньшей степени подвержено стереотипам, и восприятие у них в силу возраста более непосредственное. Как у меня, когда я впервые увидел марокканских солдат. Опыт общения с русскими у них крайне разнообразный: тут было и насилие, и романы их сестер и матерей с советскими солдатами. Вообще, по этим рассказам невозможно составить себе какого-то единого представления об отношениях немцев к русским солдатам во время оккупации. Картина выходит очень сложная, почти в духе «Войны и мира».
Не случайно моя главная статья по Устной истории называется «Вопрос-Ответ-Вопрос»: мы задаем вопросы, получаем ответы и эти ответы порождают новые вопросы. Причем последние не обязательно обращены к интервьюируемому, чаще это вопросы к самой истории, к ее стереотипам. Историки говорят: у источников всегда есть право вето. А у Устной истории всегда есть право усложнить или опровергнуть сложившееся в науке представление. Ведь индивидуальная память почти всегда находится в оппозиции к памяти коллективной, носителем которой может оказаться и сам исследователь.
Я знаю, что сами вы никогда не боялись нарушать табу, даже в том случае, когда ради этого приходилось спорить с живыми свидетелями.
Л.Н. Всякое исследование начинается с некоего уже сложившегося представления. Наша задача найти нечто этому представлению не соответствующее и решить для себя: должны ли мы сохранить нашу исходную посылку или отказаться от нее в виду новых данных. Ведь наука всегда начинается с критики, в противном случае она скучна и бесполезна. Вот вкратце мое отношение к стереотипам. Впрочем, тут присутствует и личный элемент: ведь мне самому стоило большого труда от них избавиться. Постепенно (с помощью сначала теологии, а потом истории и устной истории) мне это удалось, так что теперь я могу искренне сочувствовать жертвам, не доверяя слепо каждому их слову. Поскольку человек, находящийся на краю гибели, всегда избирает некоторую стратегию выживания. В ряде случаев его поведение заслуживает всяческого восхищения. Но строить на этом целый миф для достижения собственных политических целей и продвигать этот миф в массы, я как историк, решительно отказываюсь. Потому что, как я уже говорил, я не верю в этих призрачных свидетелей эпохи, а верю в людей, которые интересуют меня уже потому, что обладают уникальным опытом, мне самому не доступным.
Избранная библиография Лутца Нитхаммера:
- Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis. Die Praxis des „Oral History“. Frankfurt am Main, 1980.
- Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet 1930-1960: Band 1, Faschismuserfahrungen im Ruhrgebiet. Berlin, Dietz Verlag, 1986.
-
Posthistoire. Ist die Geschichte zu Ende? Reinbek bei Hamburg 1989.
- Die volkseigene Erfahrung. Eine Archäologie des Lebens in der Industrieprovinz der DDR. Berlin: Rowohlt, 1991.
-
Kollektive Identität. Heimliche Quellen einer unheimlichen Konjunktur. Reinbek bei Hamburg, 2000.
- Ego-Histoire? Und andere Erinnerungs-Versuche. Wien u.a. 2002.
-
Der gesäuberte Antifaschismus. Die SED und die roten Kapos von Buchenwald. Berlin 1994
- “Die Menschen machen ihre Geschichte nicht aus freien Stücken, aber sie machen sie selbst” Hrsg., zusammen mit Bode Hombach, Tilman Fichter, Ulrich Borsdorf Berlin/Bonn 1984
По теме:
Фрагмент из главы “Евреи и русские” книги Нитхаммера “Вопросы к немецкой памяти” / booknik.ru