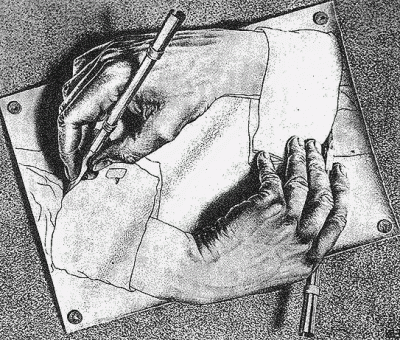75 лет молчания
«Путь в один конец» — 114 дневниковых записей поволжского немца Дмитрия Бергмана. По сути, для автора, дневник — единственная возможность быть свободным актором на фоне абсолютной гегемонии власти. Несмотря на то, что Бергман владел русским языком, его дневник написан по-немецки. Это можно расценивать как определенную идентификационную стратегию: с одной стороны, Д. Бергман принимает советскую власть (отказ от религии, смена имени, образа мыслей), с другой — сохранение языковой традиции, в этой системе координат он продолжает соотносить себя с немцами. Его дневник «Unsere Reise» (в русском варианте — «Наш путь») — это путь, проделанный семьей Дмитрия Бергмана во время депортации.

В дневнике хорошо просматривается процесс формирования нового советского человека, те дискурсивные практики, которыми он овладевает в результате «большевизации». Пространство Автономной Советской Социалистической Республики Немцев Поволжья — это «витрина социализма», где понятие «идентичность» распадается гораздо раньше, чем процесс неизбежной ассимиляции.
Дневник — один из самых надежных источников по истории СССР, благодаря этому свидетельству можно говорить об идентичности немцев Поволжья, их памяти о депортации. Уникальность этого документа заключается в том, что это единственное переведенное на русский язык свидетельство о депортации, написанное участником событий. В СССР, за долгое время молчания, было сформировано ошибочное представление, согласно которому крестьянское общество, а советские немцы, в основном, были крестьянами, не может рефлексировать, нам практически неизвестны развернутые мемуары, написанные по следам депортации. «Путь в один конец» — взгляд сельского учителя Д. Бергмана, тот уровень субъективации, который доступен человеку, пишущему на немецком языке и живущему в АССР НП.
История нового человека в дневнике немца Поволжья
В каком-то смысле этот дневник является, пользуясь терминологией Полины Барсковой, «автопортретом перед смертью», так как записи охватывают последние 114 дней пребывания в сибирской деревне Тигино. Если попытаться реконструировать образ автора, то мы получим вариант человека, сформированного советской идеологией. Во всяком случае, до 1941 года Дмитрий Бергман — это представитель национального меньшинства, старающийся быть советским человеком. Во время Первой мировой войны, как и многие меннониты, он проходил службу в «канцелярии санитарного отряда».
Бергман был меннонитом, и религиозные убеждения запрещали ему брать в руки оружие. В 1916 году Яков Генрихович Штах, лютеранский пастор и известный бытописатель жизни немецких колоний в России, путешествуя по южно-русским колониям, записывает:
«Меннониты выхлопотали себѣ разрежениѣ поступать въ санитары и этимъ замѣнить службу въ лѣсныхъ командах. Когда получилось это разрѣшенiе — что было въ самомъ началѣ войны — 5,000 молодыхъ людей сейчасъ же поступили на службу въ качествѣ санитаровъ. Между ними много образованных и очень зажиточныхъ людей, и, надо сказать, что меннонитскiе санитары отличаются большою ловкостью , мужествомъ и самоотверженiем».
На момент прихода к власти большевиков Дитриху Бергману — 21 год, за плечами — армия и сочувствие новой силе, как следствие — первый этап трансформации: смена имени с традиционно немецкого Дитрих на советское Дмитрий. Эту практику можно считать распространенной, в мемуарах поволжских немцев сюжет со сменой имени — один из самых распространенных. Постепенно на смену всему национальному — прессе, литературе, традициям и обычаям, приходит явление наднационального коммунистического объединения.

Второй этап трансформации в советского человека наступает в тот момент, когда Дмитрий Бергман перестает быть крестьянином. Это происходит из-за ускоренной профессиональной мобильности — он проходит путь от секретаря сельсовета до председателя правления сельхозкооперации. До 39 лет Бергман живет в “крестьянской семье меннонитов” на территории Оренбургской губернии. В 1935 году вместе с женой, Маргаритой Гергардовной, он переезжает в село Куккус (АССР НП), где Дмитрий Дмитриевич начинает работать “учителем математики в старших классах средней школы и завучем”.
Поведенческие стратегии Д. Бергмана
Дмитрий Бергман и его жена переехали в Автономную Советскую Социалистическую Республику Немцев Поволжья в 1935 году. Они не застали голод, репрессии, раскулачивание и коллективизацию 1920-1930-х годов, происходившие в этом регионе. В воспоминаниях Маргариты Гергардовны есть фрагмент о жизни в Куккусе:
«На Волге нам очень нравилось — живописная река с пароходами, баржами и их гудками запомнилась на много лет. В селе было два колхоза — миллионеры. Вечерами летом мы часто спускались к самой воде и смотрели на движение судов с освещенными окнами, на рыбаков с их сетями».
Как раз в 1935 году советская власть боролась с “фашистскими элементами” в Немецкой автономии. По сведениям, приведенным исследователем Немцев Поволжья, Аркадием Германом, в январе этого года было выявлено 187 врагов: “…получавшие «фашистскую» помощь выступали с покаянными заявлениями, признаваясь, что совершили «измену социалистической родине». Каждое из таких собраний принимало резолюцию, в которой, как правило, «требовало» предания «фашистов» суду”.
Казалось бы, политика этнотерриториального поощрения должна была привести к тому, что в автономии не должно было быть людей, разговаривающих по-русски, в 1920-е годы так и было: «Население русского языка не знает. По-русски здесь говорят только буржуи, учителя и учительницы» . Но постепенно, получая все большую независимость (автономная территория, язык, пресса и пр.), АССР НП становилась все более социалистической. К середине 1930-х годов появилось целое поколение людей, выросших при большевистской власти, все механизмы государственного управления были советскими, при этом, по мнению Юрия Слезкина, «национальных единиц ценнее республики не существовало».
Так, из дневника Дмитрия Дмитриевича мы узнаем, что он конструирует жизнь согласно хронотопу, выстроенному советской властью. Измерение жизненных устремлений происходит в координатах пятилеток: «В 1913 году мне довелось проехать на автомобиле со скоростью около 100 км. Плохо продвинулись мои дела, а ведь я хотел во второй пятилетке иметь собственную машину!» Этническая самоидентификация Дмитрия Бергмана после 1917 года проявлялась в том, что он оставался верным языковой традиции, и для советских властей он и его семья были поволжскими немцами. Уже в 1941 году все изменилось: поволжские немцы стали врагами. Кем тогда был герой этого дневника? Что делал Дмитрий Бергман, чтобы оставаться советским человеком?
На момент депортации Дмитрию Бергману — 45 лет, можно сказать, что для него это — экзистенциальное событие, так как он начинает вести дневник 30 августа 1941 года, через два дня после официального объявления о выселении. Первая запись, сделанная Д. Бергманом, касается выселения:
«Вечером М. рассказывает, что Геде, живущий на той стороне улицы, принес известие о выселении всех немцев. (…) Я советую М. никому больше не говорить, ведь в этом, может быть, нет ни капли правды: подлая ложь и чудовищная провокация».
Аккуратное молчание и стремление не делать поспешных выводов — эти качества будут сопровождать все записи Д. Бергмана.

Другая немаловажная сторона советского этоса — социальное поведение, в особенности — выстраивание отношений с представителями власти. Казалось бы, депортация и дальнейшая жизнь в спецпоселении должны нарушить эмоциональное восприятие повседневности. В других мемуарах и воспоминаниях депортированных немцев, доминирующие эмоции — негодование и злость. Дмитрий Бергман, прочитав указ о депортации, 31 августа, пишет: «Непостижимо! Обвинение несправедливо. Всех под одну гребенку». Это будет самое эмоционально нагруженное высказывание за всю историю дневника. Вот как Дмитрий Дмитриевич описывает сотрудников партии или тех, кто исполняет их предписания. Например, о солдатах и военных:
«Со мной обходятся порядочно, и это очень приятно…»;
«Утешают возможностью получить ту же работу, что и здесь»;
«Военные, которых, признаться, видимо-невидимо, успокаивают: все будут отправлены».
Разумеется, в мемуарах, написанных в постсоветское время, мы встречаем иные оценки. Важно, что Дмитрий Бергман конструирует нарратив самостоятельно, но при участии другого актора — государства. Дневник создан не под влиянием какого-то канона (скажем, постсоветского или эмигрантского), но является прямым свидетельством о пережитых событиях. Поведенческая стратегия Бергмана — непротивление и сотрудничество с представителями советской власти. Виктор Вернерович в книге «Так это было: Национальные репрессии в СССР 1919 — 1952 годы» пишет: «…безропотно, послушно, как и подобает дисциплинированным, российским немцам, опускались в (…) зловонную могилу». В день депортации, например, семья Бергманов собрала вещи, но отправка затянулась, и Дмитрий Дмитриевич оставляет запись: «Мы собрались и хотели бы уже ехать…» Далее в дневнике — “Мы бегаем от военных к водителям и просим нас отправить. Не смешно ли! Мы просим, чтобы нас выслали! Странное положение!». С одной стороны, многими поволжскими немцами депортация воспринимается как момент слома немецкой идентичности, это переживается как трагедия и утрата. С другой стороны, перемещение поволжских немцев в совершенно иные регионы, Казахстан или Сибирь, иноязычное окружение — формирует новые стратегии идентичности, которые можно считать вынужденными, но неизбежными.
Дневник спецпоселенца
Из села Куккус в новосибирскую деревню Тигино Дмитрий Дмитриевич Бергман отправляется уже больным человеком — его мучает туберкулез. Короткие, немногословные записи, напоминают путевые заметки, где самое важное — детальная фиксация географических перемещений и описание еды. Сегодня этот Сейчас уже можно говорить о том, что путь из Немецкой автономии до пункта ссылки — детально изучен. Переезд из Поволжья в новосибирскую деревню Тигино длился 19 дней. Дмитрий Бергман совершенно не пишет о происшествиях, его опасения касаются возможности своевременного отдыха и хорошего питания:
«Впрочем, проехав три-четыре километра, поезд останавливается. Так и есть, простоим до следующего дня. Ну, лиха беда начало!»
Известно, что практически в каждом эшелоне, ехавшем на Восток, были потери — чаще всего умирали старики и дети. Кормили скудно: один раз в день горячий прием пищи, два раза в день — кипяток. В записях Бергмана нет ничего о том, как люди умирали в дороге, как катастрофически не хватало еды, как не успевали хоронить людей, как дети постоянно хотели есть: «В Акбулаке снова кормят обедом. Не так вкусно, как дома, но все равно хорошо; еще и хлеба дали. И порции порядочные». Трагический опыт полностью вытесняется детальным описанием топонимических подробностей. С 1 октября 1941 года начинается колхозная жизнь семьи Бергманов, автор начинает записывать все реалии жизни в спецпоселении. Дмитрий Дмитриевич по состоянию здоровья находится дома с двумя сыновьями, его жена, Маргарита Гергардовна, уже на четвертый день прибытия, выходит на работу.
«Нет, это мягко сказано: мне просто страшно!! Быть в Сибири и при этом в одиночестве, в беспомощном состоянии; единственный человек, способный помочь, вынужден все время проводить вне дома, в поле! Страх охватывает душу, часто — дикий страх!!»
Она вынуждена работать на веялке, скирдовать сено, искать запасы древесины и т.д. Подобный вариант адаптации, через трудовую повинность, спас семью Бергман в первые месяцы депортации.
Все, о чем пишет Дмитрий Дмитриевич, противоречит Указу Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». Так, согласно Приказу «…Президиум Верховного Совета СССР признал необходимым переселить все немецкое население (…), чтобы переселяемые были наделены землей и чтобы им была оказана государственная помощь по устройству в новых районах». На деле, семья Бергман не получила землю, они не получили ту часть имущества, которая была утрачена при депортации, им не предоставляют жилье, ни у кого из членов семьи не было теплой одежды и обуви. Компенсации не случилось. Постепенно семья Бергман теряет «цивилизованность». Спецпоселение, как особое пространство неволи, диктует свои правила поведения. Жители сибирской деревни военного времени разворовывают склады, используют колхозное зерно в личных целях, самым ходовым продуктом оказывается водка. Эта система держится на четырех «внутренних китах»: председателе колхоза, бригадире, кладовщике и сборщике налогов, в обиход входит фраза «украсть с ведома».
Окончательное размывание идентичности
Кризис самоидентификации, в котором Дмитрий Бергман практически не признается, возможно, связана с тем, что советские немцы (в частности, немцы Поволжья) не имели однозначной и единственной модели идентичности. Они одновременно соотносили себя со всеми Советами, но при этом жили внутри конкретного этноса. Подобное явление можно считать «двойной идентичностью», которая, по мнению Нины Беляевой (зав. кафедрой публичной политики Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики”) предполагает «…одновременное присутствие и органичное сочетание в самоопределении индивида двух разных, но при этом устойчивых и в равной мере значимых для индивида национально-политических идентичностей, которые определяют особенности его политического сознания и поведения в обоих социумах».
Дети Дмитрия и Маргариты, Эрнст и Игорь — пример размывания идентичности. Те процессы, которые происходили в спецпоселениях, отменили многолетние принципы немецких общин, например, ассимиляцию. На местах процесс ассимиляции происходил параллельно с социализацией:
«Эрнст настолько освоился, что полдня пропадает, нашел уже товарищей. Как хорошо для него, что в семье говорили по-русски! Теперь он вполне признан в русском окружении. Игорь тоже заговорил по-русски. (…) начало положено. Мальчишки исподволь русифицируются».
Процесс размывания идентичности произошел задолго до депортации, семья Бергман говорила по-русски и по-немецки, отец семейства сочувствовал большевикам и, не исключено, транслировал ценности, связанные с советским проектом. На самом деле, семья Бергман не была религиозной, поэтому ценность языка постепенно отходит на второй план. В результате, когда вся семья была депортирована, дети начали отказываться от немецкого языка, этническая идентичность была нарушена. Дети Дмитрия Бергмана теряют язык и возможность этнической самоидентификации. Тем не менее, даже в депортации одна из осознанных моделей общественного поведения семьи Бергман — четкое противопоставление «мы — они», особенно в отношении начальства. «Панин тоже здесь и ставит вопросы, которые могут скомпрометировать М. как счетовода. Она дает ему отпор. Всегда бы так: если сам себя не защитишь, другие и подавно не станут». Тесное сотрудничество и разделение социальных ролей — характерная модель общения между начальством и подчиненными.
Конец дневника
Автор дневника, Дмитрий Дмитриевич Бергман был сформирован большевистской идеологией. Несмотря на верность языковым традициям, он меняет имя, исключает религию, старается мыслить материалистически. Тем не менее, в рамках протестантской традиции, автор дневника постоянно спрашивает себя: «Кто я?». Субъективация, являющаяся неотъемлемой частью советского дискурса, усиливается страхом приближающейся смерти:
«А я? Я стал домашней прислугой! (…) Как я уже сказал: развалина. Станет ли мне когда-нибудь лучше?»
Идеология учила человека не бояться смерти, материализм служил базовой ценностью, смерть была “окончанием жизни” . Спецпоселение, как особое пространство, со своим хронотопом, режимными правилами и моральными ориентирами — задает повествовательную матрицу дневника. Любая запись — откат назад, поражение, уступка обстоятельствам, в конечном счете — потеря цивилизованности. Двойная идентичность, носителем который был Дмитрий Бергман, практически исчезла в его детях, формы бытования культуры переместились в практики памяти, а немецкий язык, имена и фамилии — стали остатками тех традиционных практик, которые бытовали в немецком Поволжье.
6 февраля 1942 года Дмитрий Дмитриевич Бергман умирает в далекой Новосибирской области, в маленькой деревне Тигино Чистоозерного района. Его жену, Маргариту Гергардовну, в 1943 году ждет трудармия, до 1945 года, их дети — Игорь и Эрнст, будут воспитываться в семье соседей-немцев. Ближе к концу дневника записи становятся короче, последняя запись, сделанная Дмитрием Бергманом, умещается в три строки. Если прежде забытый советской властью человек хотел жить, то 2 января 1942 года он пишет: «Нет желания вставать». Меньше, чем через полгода его сын, Эрнст Бергман, уже не сможет найти могилу отца.