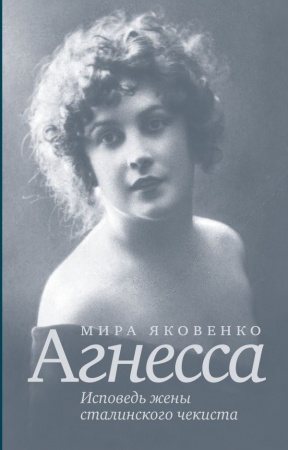Агнесса
И вот приезжаем в Москву. Перрон Ярославского вокзала.
…
У Мироши чудесные были глаза — светло-карие, большие, выразительные, я многое научилась по ним читать. И тут встретилась с ним взглядом, вижу: он счастлив, и не только встречей с нами… Я горю нетерпением узнать, но он — ни слова, улыбается таинственно. Вижу только, что он не в форме НКВД, а в прекрасном заграничном коверкотовом пальто.
Хлопоты о вещах, как выгружать, как доставить, все это нас не касается, для этого есть «подхалимы». А мы выходим из вокзала, нас ждет большая роскошная машина, садимся в нее и — по московским улицам. После Улан-Батора, как в кипучий котел попали. И вот уже проехали Мясницкую (тогда уже называлась улицей Кирова), и площадь Дзержинского, и площадь Свердлова, я жду — свернем к гостинице. Ничуть нет! В Охотный ряд, на Моховую, мимо университета, Манежной. Ничего не понимаю! Большой Каменный мост. Куда же мы?
И вот мы въезжаем во двор Дома правительства[1]. А там лифт на седьмой этаж, чудесная квартира из шести комнат — какая обстановка! Свежие цветы, свежие фрукты! Я смотрю на Миронова, он смеется, рад, что сюрприз преподнес, обнял меня, шепнул на ухо:
— Удивлена? Не удивляйся. Я теперь замнаркома иностранных дел по Дальнему Востоку. Начальник второго отдела Наркоминдела[2]. Да ты внимательно посмотри!..
Смотрю — на груди орден Ленина. А глаза блестят, я хорошо знала этот блеск успеха.
Так страшные качели еще раз вознесли Мирошу.
Кажется, в тот день мы с ним были приглашены в Большой театр на какое-то торжественное заседание…
Вы, наверное, никогда не видели Ежова? А я видела. Небольшой, щуплый, на лице с одной стороны крест-накрест шрамы. Ничтожество безликое. Жена его, говорят, была приличная женщина[3]. Эренбург[4] пишет, что Бабель[5], который с ней когда-то учился, приходил к ней в гости, чтобы понять, что это за таинственное могущество у этого карлика, приходил, дразня судьбу, пока сам не забился в паутине.
А могущество было дутое, но сам-то Ежов думал — истинное, и так раздулся, что его (нам рассказывали) все члены ЦК, члены Политбюро боялись. Звонит,
например, секретарь Молотова[6], чтобы договориться о встрече, а Ежов ему высокомерно:
— Что это вы звоните? Если ему нужно, пусть звонит сам. Или приходит.
И шли. На поклон. Заискивали.
В тот вечер в Большом театре[7] на сцену, помню, выскочил Микоян, маленький, юркий, во френче, в сапогах — они все одевались «под Сталина». Каганович[8] даже усы отпустил такие, чтобы походить на него. Выскочил Микоян и давай восхвалять сидящего здесь же в президиуме «стального наркома», «талантливого сталинского ученика», «ежовые рукавицы», «любимца советского народа, который зорко хранит безопасность», «у которого всем чекистам надо учиться», и т. д., и т. д. Когда он закончил, что тут поднялось! Аплодисменты, овация, прямо воют все от восторга, какое-то безумие всех охватило. Ну и мы с Мирошей ладоши отхлопываем — а что делать? Еще на заметку возьмут, что нерадиво хлопали!
Такая в Москве была обстановка…
…
Шли аресты. Конечно, мы об этом знали. В нашем Доме правительства ночи не проходило, чтобы кого-то не увезли. Ночами «воронки» так и шастали. Но страх, который так остро подступил к нам в Новосибирске, тут словно дал нам передышку. Не то чтобы исчез совсем, но ослаб, отошел. Может быть, потому, что Ежов и Фриновский были в силе и их ставленников аресты пока не касались.
…
Вспоминается мне это время, как мирное и хорошее, как какая-то остановка, передышка.
…
Как раз в это время вернулся из-за границы Алтер — Михаил Давыдович Король, двоюродный брат Мироши. Алтер — одно из имен, которое ему дали при рождении. Оно означает «старший».
…
Михаил Давыдович несколько лет прожил за границей — это была секретная командировка. Перед тем как обосноваться в США, он жил какое-то время в Европе, затем в Китае, Японии, чтобы «замести следы». Приехал он в США из Канады как еврей-коммерсант, поселился в Нью-Йорке. В США его заданием было основать фирму, доход с которой шел бы на финансирование американской компартии и на коммунистическую прессу. То есть послан он был не как шпион, а для пропаганды, агитации в пользу перемены строя.
Всего их отправили пять человек. За границей они разбились на две группы: в одной три человека, в другой двое — Михаил Давыдович и Марк Павлович Шнейдерман[9].
В 1938 году их всех отозвали в Москву. Когда Михаил Давыдович возвращался, ему в Париже в посольстве один знакомый сказал: «Вы возвращаетесь домой? А вы знаете, что там делается?» И рассказал, какие идут аресты. «Постарайтесь здесь задержаться хотя бы на год», — посоветовал он. Михаил Давыдович поверил, но побоялся, что в случае его задержки расправятся с семьей, да и его достанут где угодно.
И он вернулся.
Вернулся и сразу окунулся в этот ужас арестов. «Тройку», которая отделилась от них с Шнейдерманом, арестовали тотчас по возвращении, еще до приезда Михаила Давыдовича. Не успели они с Марком приехать, как того арестовали тоже. Михаил Давыдович пока еще был на свободе, но партбилет у него отобрали, работы не давали, он нервничал без дела.
Мироша его любил, но сейчас, когда он только что вернулся из-за границы, поостерегался с ним видеться. Виделась одна я, без Мироши.
…
Встретились они с Михаилом Давыдовичем как-то у родственников… Ну тут посторонних глаз не было, пошел задушевный разговор. Отсели от всех. Мироша спрашивал, интересовался, Алтер отвечал, а потом и Алтер стал спрашивать.
У Алтера было всегда свое собственное мнение. И смотрел он прямо в глубь вещей, безо всяких лицемерных прикрас.
Что Мироша отвечал ему, не помню, помню только, что Алтер вдруг сказал ему, прямо глядя в глаза, резко осуждая его, как когда-то за картежную игру:
— У тебя, наверное, руки по локоть в крови. Как ты жить можешь? Теперь у тебя остается только один выход — покончить с собой.
— Я сталинский пес, — усмехнулся Мироша, — и мне иного пути нет!
И верно. Я вам говорила уже, когда рассказывала о Новосибирске, что Сережа, если бы даже и захотел, уже не мог бы вырваться из машины, он ее вынужден был крутить… Правда, тут, в Москве появилась иллюзия, что из той машины Сережа вырвался.
…
А я. Я до поры была беспечна, мне очень нравилась наша «дипломатическая» жизнь. А тут еще Сережа намекнул мне как-то, что его могут направить послом, но уже не в Монголию, а повыше. Максим Максимович Литвинов к нему очень хорошо относился.
Тогда Сереже и рассказали про Марка Шнейдермана. Я уже говорила, что его арестовали тотчас после возвращения из-за границы.
И вот через какое-то время прибегает к нам Михаил Давыдович. Это было необычно: понимая, что Мироша остерегается с ним встречаться, он обычно себе этого не позволял.
Но тут:
— Знаете, Марка освободили! — Значит, посветлело и над его головой. Сережа — никаких комментариев.
Мы тут же собрались — Мироша снял с себя запрет — и поехали к Королям. Михаил Давыдович вызвал по телефону Шнейдермана и его жену — Веру Васильевну, и мы очень весело отметили это событие.
Уже много лет спустя Михаил Давыдович говорил мне:
— А знаешь, это Мирошиных рук дело, что Марка освободили.
Я думаю, он прав. Мироша мне тогда, помню, рассказывал:
— Меня вызывали на Лубянку, спрашивали о Шнейдермане.
— И что же?
— Попросили дать характеристику.
Я теперь думаю, что Мироша сказал мне не всю правду. Это не его вызывали, а он сам пошел, используя свои большие связи.
…
Вот вскоре после этого мы и поехали на дачу к Фриновскому. Фриновский недавно вернулся с Дальнего Востока, куда они ездили с Мехлисом «прочищать» Особую Дальневосточную. Целый поезд с ними был специальных войск. И не только армию «прочищать», — Фриновский ликвидировал и всех начальников НКВД на Востоке. Помню, Мироша сказал: хорошо, мол, что я сейчас не там, — и со мной Фриновский расправился бы. И тут же добавил:
— Только один спасся.
— Спасся? — удивилась я.
— Удрал в Японию. Люшков.
Я ушам своим не поверила. «Спасся!» И это говорит Мироша с его партийной преданностью!
…
Вы хоть немного имеете представление о том страшном времени? Помните, мы слышали с вами выступление генерала… Вот выскользнула фамилия! Он еще читал свои воспоминания о заседании ЦК вскоре после расстрела военных. Помните? Читал, как Ворошилов[10] стоял на трибуне и бил себя кулаком в грудь и в лоб и повторял, все каялся, каялся: «Я дурак, я старый дурак! Не разглядел предателей, изменников!..» А тем временем комендант Кремля каждые несколько минут заходил в зал и уводил то одну группу, то другую — для ареста.
Мы с Мироновым тогда, правда, были в Монголии, но и тридцать восьмой год был не лучше. Помните, он начался с процесса Бухарина, Рыкова, Ягоды[11]?.. Судили Запорожца, Медведя, «врачей-отравителей». Всех осудили. На собраниях выли: «Требуем смертной казни! Требуем расстрелять предателей!»
Говорят, Анна Ильинична, сестра Ленина, всю жизнь была влюблена в Бухарина и умерла через полтора месяца после его расстрела, не перенесла.
Мне Миронов говорил, что процесс над Бухариным и другими создали Фриновский и Заковский[12]. В начале тридцать восьмого года Фриновский был в большом почете. Летом он уехал с Мехлисом на Дальний Восток, я уже говорила об этом.
Тотчас японцы, прознав про разгром Особой Дальневосточной армии, вторглись на нашу территорию в районе озера Хасан, но Блюхер[13] сумел организовать оборону. Однако когда японцев отбили, Блюхера вызвали в Москву и здесь уже осенью арестовали.
Миронов с Блюхером был давно знаком. Я видела Блюхера вблизи. Сильное лицо, широкие челюсти, жесткие усы, седоватые волосы. Мы с ним и его третьей женой встретились как-то в театре. (Он женился три раза, в третий раз на молоденькой комсомолке, дочери известного тогда машиниста Кривоноса[14] — хорошенькой, розовенькой, серьезной.)
Миронов с Блюхером был на «ты», но тот жену свою не представил. А может быть, она просто была его любовницей [15]?
С тех пор прошло несколько лет. Теперь Блюхера арестовали, но никакого суда над ним не было. Говорили, что его страшно мучали на допросах, вырвали ему глаз, что Ежов застрелил его в своем кабинете.
Когда Блюхер вошел, Ежов будто бы крикнул злорадно:
— Что, не удалось удрать в Японию на самолете брата? Ах ты шпионская морда, японский шпион! А Блюхер ему в ответ:
— А ты кто? Откуда ты такой взялся?
Ежов, который уже занесся так высоко, воображал, наверное, что вершит судьбы всех и вся, выстрелил в него, говорят, в упор — и насмерть.
Нам казалось, что Ежов поднялся даже выше Сталина. Но. .. еще за два-три года до того появилась статья о большевиках Закавказья, воспевающая заслуги Сталина.
Подписана была именем, которое тогда в Москве еще никто не знал: «Л. Берия» (мы-то знали!)[16].
Теперь это имя попадалось все чаще. Мироша сказал, что Сталин вызвал Берию с Кавказа и сделал его заместителем Ежова.
И стало происходить что-то странное. Ежов сидит у себя в кабинете, а все сотрудники, вот уж действительно крысы с тонущего корабля, его избегают, как зачумленного, никто к нему с докладом не идет, все дела несут его заместителю — Берии. Ежов еще занимает пост, он еще формально во главе и сидит в кабинете наркома, но все уже от него отхлынули.
…
В Наркоминделе шли аресты. Они бывали и прежде, но не такие. Пока Фриновский был в НКВД, Мироша чувствовал себя защищенным. Но Фриновский стал наркомом Военно-Морского Флота. Начали снимать ежовцев, как прежде снимали ягодинцев… Арест следовал за арестом. Сегодня Миронов работает с подчиненным, а завтра приходит — того уж нет. Арестован!
…
Я уже говорила, что у нас в Доме правительства ночи не проходило, чтобы не приехал «воронок». Кого-то арестовывали, увозили, в его квартиру вселялся новый жилец, затем через какое-то время приезжали и за ним, арестовывали, увозили, и в квартиру въезжал следующий. Теперь снимали уже третий слой.
…
Как-то, возвращаясь домой, Миронов вошел в лифт вместе со Шверником[17], и вдруг туда же вскочил незнакомый человек в белых бурках. И Миронов, и Шверник застыли… Что они пережили за ту минуту, пока лифт поднимался! Кому из них предъявить ордер на арест едет этот явный работник НКВД? На седьмой этаж к Миронову или на восьмой к Швернику?
Он сошел на шестом этаже, и только тогда они ощутили, что еще живы. Но лишь понимающе встретились глазами, не улыбнувшись друг другу. В такой ситуации тогда не улыбались.
…
Однажды ночью он вдруг вскочил с постели, выбежал в прихожую и быстро задвинул палкой дверь грузового лифта, который подавался прямо в квартиру, затем навесил на входную дверь цепочку, но этим не ограничился. Как невменяемый, схватил комод, притащил его и придвинул к дверям лифта.
— Сережа, — зашептала я, — зачем ты?
— Я не хочу, не хочу, чтобы они пришли оттуда и застали нас врасплох! — воскликнул он.
Я тотчас поняла: он хотел, чтобы был стук, или чтобы грохот комода или треск переломанной палки разбудили его, чтобы не ворвались, как когда-то к Шанину, спящему.
— Мне надо знать, надо. когда они придут!
И я опять поняла: чтобы успеть застрелиться.
— Ты что, Сережа?!
И вдруг он истерически разрыдался, закричал в отчаянии:
— Они и жен берут! И жен берут!
Я никогда еще не видела, чтобы Сережа плакал. Я ушам, глазам своим не поверила… И вдруг понимаю — настал момент, когда мне надо стать сильнее его, утешить, успокоить. Я обняла его, стала говорить, говорить. Ну даже если и арест, то, может быть, это не конец, ты еще можешь быть оправдан, отпущен, ты же ни в чем не виноват, и еще может быть жизнь какая-то, а если ты не выдержишь, возьмешь и застрелишься, то тут уже возврата нет, это уже будет навсегда, это уже и будет конец.
Я дала ему валерьянки, и после того, как мы несколько часов проговорили, он наконец заснул.
В ту ночь мы с ним условились о шифре. Если его и в самом деле арестуют и он сможет мне писать, то подпись в письме «целую крепко» будет означать, что все хорошо, если «целую» — то средне, а если «привет всем» или что-нибудь в этом роде, без «целую», то — плохо.
[1] «Дом на Набережной» (официальное наименование — «Дом правительства»; другие названия — Первый Дом Советов, или Дом ЦИК и СНК СССР) — комплекс сооружений на Берсеневской набережной Москвы-реки на Болотном острове. Жильцами дома стали главным образом представители советской элиты: учёные, партийные деятели. 12-этажный дом на набережной с 505 квартирами (24 подъезда) стал одним из самых крупных домов в Европе. Во время Большого террора жертвами репрессий стали многие жильцы дома.
[2] Наркоминдел — народный комиссариат иностранных дел.
[3] Жена Ежова Евгения Соломоновна Хаютина (Фейгенберг) (1904–1938) — была журналистом и редактором. Ее квартира была салоном, куда были вхожи и известные писатели. Покончила с собой в больнице в ноябре 1938.
[4] Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) — советский писатель, журналист, общественный деятель.
[5] Бабель Исаак Эммануилович (1894–1940) — советский писатель, арестован в 1939, расстрелян в 1940.
[6] Молотов Вячеслав Михайлович (настоящая фамилия Скрябин) (1890-1986) — советский политический и государственный деятель. Председатель Совета народных комиссаров СССР в 1930-1941. В мае 1939 (после смещения М. Литвинова) назначен наркомом иностранных дел.
[7] Речь идет о праздновании 20-летия ЧК-НКВД, где с докладом выступал А. Микоян.
[8] Каганович Лазарь Моисеевич (1893–1991) — советский государственный и партийный деятель, близкий сподвижник Сталина, многие годы занимал высшие посты.
[9] Шиейдерман Марк Павлович (1900–1948) — советский контрразведчик. Бригадный комиссар. Командировка в Европу, Японию, Китай, США. Арестован в 1937–1938, повторно в 1939, осуждён на 8 лет лагерей. Умер после освобождения.
[10] Ворошилов Климент Ефремович (1881-1969) — советский военачальник, государственный и партийный деятель, в 1934-1940 годах нарком обороны СССР. Принимал активное участие в репрессиях против командного состава РККА.
[11] Третий Московский процесс, официально «Процесс антисоветского правотроцкистского блока», — публичный суд над группой бывших государственных и партийных руководителей СССР. Дело слушалось в Военной коллегии Верховного Суда СССР со 2 по 13 марта 1938 при председательствующем В. В. Ульрихе и государственном обвинителе А. Я. Вышинском. Основными обвиняемыми были видные деятели партии, обвинённые в правом уклоне: А. И. Рыков, Н. И. Бухарин, а также бывшие троцкисты Н. Н. Крестинский, X. Г. Раковский. Важнейшим обвиняемым был бывший нарком внутренних дел Г. Г. Ягода. Подсудимые обвинялись «в измене родине, шпионаже, диверсии, терроре, вредительстве, подрыве военной мощи СССР, провокации военного нападения иностранных государств на СССР, а также восстановление капитализма и отторжение от СССР союзных республик и Приморья». Суд счёл вину всех обвиняемых доказанной и приговорил 13 марта 1938 всех подсудимых, кроме троих, к высшей мере наказания — расстрелу.
[12] Заковский Леонид Михайлович (наст. имя Генрих Штубие) (1894–1938) — деятель ВЧК-ОГПУ-НКВД, комиссар государственной безопасности i-го ранга. Один из организаторов сталинских репрессий. В 1938 заместитель наркома внутренних дел и начальник Московского управления НКВД. Один из организаторов Третьего Московского процесса. В апреле 1938 арестован и расстрелян.
[13] Блюхер Василий Константинович (1890–1938) — советский военный, государственный и партийный деятель, Маршал Советского Союза. Сталин включил Блюхера в состав Специального судебного присутствия, осудившего на смерть группу высших советских военачальников по «Делу Тухачевского» (июнь 1937). Арестован в 1938, в тюрьме к нему применялись пытки. Умер, находясь под следствием. Посмертно лишён звания маршала и приговорён к смертной казни.
[14] Кривонос Пётр Федорович (1910–1980) — деятель советского железнодорожного транспорта, один из инициаторов Стахановского движения на железнодорожном транспорте.
[15] Блюхер был женат трижды. Две первые жены — Галина Покровская и Галина Кольчугина были расстреляны. Третья жена Блюхера, Глафира Безверхова (1915-1999) приговорена к 8 годам ИТЛ.
[16] Вероятно, Агнесса имеет в виду книгу Лаврентия Берия «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье» (1935), в мифологическом духе прославлявшую роль Сталина в дореволюционной борьбе с царским правительством.
[17] Шверник Николай Михайлович (1888–1970) — советский политический деятель, Председатель Президиума Верховного Совета СССР в последние годы правления Сталина (1946-1953).