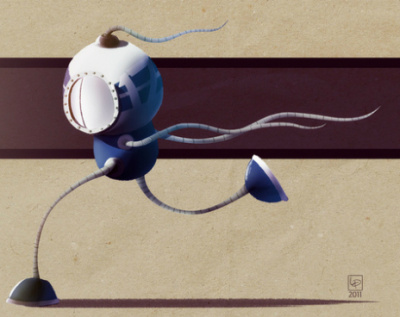Дерзновение жертвы / Концепция виктимности Рене Жирара
Часто, сталкиваясь с необходимостью изложения сложной философской концепции, исследователь испытывает «комплекс сороконожки»: с чего же начать?
Начнем с Господа нашего Иисуса Христа, погибшего на кресте под дружное ликование толпы. Впрочем, нет. Начнем с московских процессов 1936–1937 годов, на которых за уничтожение обвиняемых вместе с прокурором ратовали мирные советские граждане.
Или все-таки в самом начале уместно было бы упомянуть, что в архаической Греции, на Аттике существовал такой обычай: на праздник Фаргелии, посвященный культу Аполлона и Деметры, некоего человека, как правило, преступника, водили по улицам, кормили, а затем – пороли зелеными ветвями и изгоняли или убивали
Такого рода вневременные скачки несколько неуместны. Только тут мы попадем в некую глухую зону, зону вне времени, поскольку, несмотря на очевидность исторических фактов, эта зона стерта из сознания, из человеческой памяти. Этим серым пятном является факт принесения в жертву толпой невинного/невиновного человека.
Давайте спросим себя, вслед за автором концепции, не было ли у нас никогда желания принести ближнего своего в жертву собственному тщеславию, или, вернее, собственному спокойствию? Автор, Рене Жирар, самонадеянно ответит – нет, он за собой таких грехов не знает. Почти через тридцать, а то и сорок лет, Григорий Дашевский, который перевел на русский две значительные философские работы Жирара – «Насилие и священное» (1972) и «Козел отпущения» (1982), ответит: не отрицаю, и я, поддавшись соблазну линчевания, желал бросить свой камень
 |
 |
|
Рене Жирар. Фото: RAI 3 (Италия) Григорий Дашевский |
Метафора камня имеет большое значание в концепции Жирара. Но это не тот камень, который бы мог быть брошен в женщину, взятую в прелюбодеянии, litos. Нет, это камень преткновения, skandalon.
Символическая функция этого «камня» не летать, а лежать на земле, на чьем-то пути. Господь сказал: «Не злословь глухого и пред слепым не клади ничего, чтобы преткнуться ему» (Левит 19,14). В Ветхом Завете слово skandalon появляется в контексте запрета на насилие, в том числе по отношению к беспомощным, того насилия, которое может развязать месть. То же понятие «камня преткновения» появляется в контексте запрещения идолопоклонства, имплицитно предполагающего принесение жертвы
Процесс принесения жертвы имеет двойной временной контекст – исторический и личностный. С одной стороны, до истоков этого процесса не дотягивается культурная память, с другой стороны, личная память его не приемлет.
Память утрачивается в момент принесения жертвы. Линчеватели легко забывают момент линчавания. Есть несколько факторов, которые обеспечивают забвение. Во-первых, это невинность жертвы. Поиски виновного запускают процесс мести и, тем самым, способствуют запоминанию наказания. Месть, в ее архаическом смысле, не только намечает жертву, она еще и ищет кровных союзников, как правило, принадлежащих к одной семье или клану. Месть некоторым образом обосабливает. Жирар считает, что современная судебная система, призванная искать и наказывать виновных, имитирует механизм кровной мести. Нам эта система кажется более цивилизованной, между тем, архаическая ее функция от нас скрыта.
Судебная система рационализирует, успешно кроит и ограничивает месть.., она манипулирует ею без всякого риска: она превращает ее в крайне эффективную технику исцеления – а во вторую очередь, и профилактики насилия
Жирар Р. Насилие и священное / пер. с франц. Г. Дашевского. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 34. .
Второй момент, который способствует забвению: хитрая переоценка ценностей людьми, осуществляющими насилие. В момент насилия они свято считают самих себя жертвами. Такого рода логика мобилизует к поискам виновных. Жирар обращает внимание на двойственный смысл понятия «мобилизация», этимологически связанного с английским mob – толпа, сброд, сборище, чернь. Хотя и само это слово восходит к латинскому mobile – подвижный возбудимый, некоторые контексты процесса мобилизации стирают его нейтральный смысл
Возникновению толпы, то есть безличного собрания людей, объединенных, как правило, гонительской целью, предшествует кризис. Жирар обращает внимание на лингвистическую неоднозначность и этого понятия. Греческий глагол krino означает не только «судить», «отличать», «различать», но и «обвинять», «осуждать» жертву. Кризис обычно возникает в результате некой социальной катастрофы, которая ведет за собой нарушение привычных социальных иерархий, задающих культурные различия в обществе
Различия стираются, и толпа, объединенная дурной взаимностью, начинает искать себе жертву. Жирар называет такого рода ход событий кризисом неразличимости. Дело вовсе не в том, что толпа состоит из обезличенных людей, а в том, что жертва скрывается в той же толпе и на первый взгляд не отличима от остальных. Чем жертва неотличимее, тем она опаснее. Так, например, евреи как представители иного вероисповедания, ассимилировавшие при этом культуру, в которой они находятся, от века представляли как бы «идеальный» вид жертвы. Среди других жертв – варвары (иностранцы). Они опасны не тем, что говорят на своем непонятном языке, а тем, что недостаточно точно воспроизводят твой собственный. Жирар отмечает, что склонность отдельного индивида чувствовать себя отличным от других в рамках собственной культуры странным образом растягивается на культуру в целом: собственная культура воспринимается как самая уникальная и отличная от всех. Вероятно, в этой связи, как считает Жирар, в России лучше не быть космополитом. Другими потенциальными жертвами являются инвалиды, подрываюшие не столько социальную, сколько внутреннюю личную стабильность: глядя на них потеннциальные гонители осознают свою физическую хрупкость, по большому счету, смертность
Сам процесс гонения разворачивается по определенным стереотипам. Исследуя исторический контекст гонений, Жирар пришел к выводу, что первым главным поводом для гонений выступает возможное покушение на представителя верховной власти. Второе, более скромное место, занимают сексуальные преступления – изнасилование, инцест, скотоложество. Дальше идут преступления на религиозной почве
Я не один! – восклицал Вышинский в своей заключительной речи. – Я чувствую, что рядом со мной стоят вот здесь погибшие и искалеченные жертвы жутких преступлений, требующие от меня, как от государственного обвинителя, предъявлять обвинения в полном объеме. Я не один! Пусть жертвы погребены, но они стоят здесь рядом со мной, указывая на эту скамью подсудимых, на вас, подсудимые, своими страшными руками, истлевшими в могилах, куда вы их отправили! Я обвиняю не один! Я обвиняю вместе со всем нашим народом, обвиняю тягчайших преступников, достойных одной только меры наказания – расстрела, смерти!
Здесь мифические жертвы превращаются в злобных гонителей, восставших из могил
Что же предшествует ужасу дурной взаимности? Что побуждает людей объединяться в поисках жертвы? Рискнет ли человек отделиться от толпы, способен ли он на это? С точки зрения Жирара, каждый человек психологически парализован на уровне собственных желаний; ему необходимо не упускать из виду другого, чтобы тот подавал ему пример того, чего желать. Здесь можно вернуться к метафоре skandalon'a как камня преткновения. Эта метафора помогает Жирару объяснить формирование желания. Возникновению желания предшествует страстное увлечение, фактически, одержимость другим человеком. Недаром, как уточняет переводчик, skandalon в своем непосредственном значении – это ловушка. Человек платит большую цену за одержимость другим. Обретение независимости собственных желаний, с точки зрения Жирара, практически невозможно. С потерей «миметического двойника», то есть того, с кого он копирует собственные желания, человек рискует потерять рассудок.
Иллюстрация такого рода одержимости – история усекновения главы Иоанна Предтечи (Мк. 6, 14–29)
История с усекновением главы Иоанна Предтечи разворачивается в двух направлениях. С одной стороны, это история Ирода, который оказался не в силах пойти наперекор своей страсти и мнению «толпы» (гостей). С другой, история Саломеи, которая не знала о своих желаниях и, будучи скандализированной (соблазненной, запутанной) матерью, потребовала страшной жертвы. Жирар исследует дальнейшую судьбу Саломеи. Каждый библейский «злодей» в церковной традиции несет наказание. Саломея, как считается, погибла, разбившись о лед. Ребенок, запутанный собственной матерью, погиб в холоде и неустойчивости. Это ли не метафора шизофрении? Такого рода переплетение когнитивных теорий психологии и библейских притч очень характерно для мысли Жирара.
Возвращаясь к метафоре «толпы», нельзя не вспомнить другую фигуру – Понтия Пилата после рокового решения которого был принесен в жертву Иисус Христос. Безусловно, поступок Пилата был продиктован толпой. Для предстоящих перед ней толпа наделена магией, каким-то обаянием, заставляющем забывать о своих мотивах. Так случилось и с Понтием Пилатом. «Пилат – единственный обладатель настоящей власти, но толпа стоит над ним. Стоит ей мобилизоваться, она побеждает абсолютно, тащит институты за собой, принуждает их раствориться в себе»
Для описания контекста взаимоотношений «героя» с толпой вспомним образ Пилата, воссозданный в России 1930-х годов:
Лишь только белый плащ с багряной подбивкой возник в высоте на каменном утесе над краем человеческого моря, незрячему Пилату в уши ударила звуковая волна: «Га-а-а…» Она началась негромко, зародившись где-то вдали у гипподрома, потом стала громоподобной и, продержавшись несколько секунд, начала спадать. «Увидели меня», – подумал прокуратор…
Он выждал некоторое время, зная, что никакою силой нельзя заставить умолкнуть толпу, пока она не выдохнет все, что накопилось у нее внутри, и не смолкнет сама.
– Четверо преступников, арестованных в Ершалаиме за убийства, подстрекательства к мятежу и оскорбление законов и веры, приговорены к позорной казни – повешению на столбах! И эта казнь сейчас совершится на Лысой Горе! Имена преступников – Дисмас, Гестас, Вар-равван и Га-Ноцри. Вот они перед вами!
Пилат указал вправо рукой, не видя никаких преступников, но зная, что они там, на месте, где им нужно быть.
Толпа ответила длинным гулом как бы удивления или облегчения. Когда же он потух, Пилат продолжал:
– Но казнены из них будут только трое, ибо, согласно закону и обычаю, в честь праздника пасхи одному из осужденных, по выбору Малого Синедриона и по утверждению римской власти, великодушный кесарь император возвращает его презренную жизнь!
Пилат выкрикивал слова и в то же время слушал, как на смену гулу идет великая тишина. Теперь ни вздоха, ни шороха не доносилось до его ушей, и даже настало мгновение, когда Пилату показалось, что все кругом вообще исчезло. Ненавидимый им город умер, и только он один стоит, сжигаемый отвесными лучами, упершись лицом в небо. Пилат еще придержал тишину, а потом начал выкрикивать:
– Имя того, кого сейчас при вас отпустят на свободу…
Он сделал еще одну паузу, задерживая имя, проверяя, все ли сказал, потому что знал, что мертвый город воскреснет после произнесения имени счастливца и никакие дальнейшие слова слышны быть не могут.
«Все? – беззвучно шепнул себе Пилат, – все. Имя!»
И, раскатив букву «р» над молчащим городом, он прокричал:
– Вар-равван!
Тут ему показалось, что солнце, зазвенев, лопнуло над ним и залило ему огнем уши. В этом огне бушевали рев, визги, стоны, хохот и свист
Булгаков М. А. Мастер и Маргарита // Булгаков М. А. Романы. Кишинев: Литературная артистика, 1987. С. 489–490. .
Евангелие, с точки зрения Жирара, полностью раскрывает код жертвенности. Принесенная Христом жертва – слишком очевидна и не может быть мифологизированна; она выявляет все последующие жертвы и потому отменяет их.
Жирар считает, что Евангелие в наиболее прозрачном виде дает ключ к разгадке особенностей человеческого сознания. Непопулярность евангельских текстов сегодня он связывает с некоторой догматизированностью человеческого сознания, находящегося под влиянием таких ключевых фигур современности, как К. Маркс, З. Фрейд и Ф. Ницше. Есть и еще одно объяснение нечувствительности современного человека к кодам насилия и жертвенности – ложное ощущение собственного всесилия, которое выражается, прежде всего в иллюзии безопасности частной жизни. «Демистифицированное» сознание современных социальных наук исходит из того, что событийность человеческой жизни разворачивается на мирном фундаменте
|
|
Наряду с рационализацией чуда, концепции Жирара свойственно усложнение психической жизни человека. Обращаясь к ее исследованию, Жирар описывает феномен двойного зрения – «галлюциаторное образование», нечто среднее между галлюцинацией, обманом восприятия и сном, феномен, который с трудом можно описать в терминах современной психиатрии. При помощи двойного зрения человек может увидеть своего антагониста / потенциальную жертву в ее истинном обличье.
Этим мистифицированием Жирар противопоставляет себя общей тенденции упрощения психического процесса. Научный язык интерпретации человеческого поведения, связанного с базовыми влечениями – агрессивностью и сексуальностью, прибегает к понятиям, заимственным, например, из этологии – науки о поведении животных. Таким понятием является инстинкт. Для человека кажется естественным инстинкт самосохранения, или, в несколько более усложненном виде, «инстинкт смерти» – понятие из теории Зигмунда Фрейда, обозначающее саморазрушительные тенденции в человеке.
Инстинкт предполагает неосознанное. Движимый инстинктом, человек приписывает свою неосознаваемую потребность в насилии мифологической внешней реальности – судьбе или богам. Жирар отмечает, что, согласно психоаналитической концепции, «инстинкт смерти» выражается, среди прочего, в постоянном повторении вытесненного болезненного опыта, который ощущается как серия предательств и неудач , или каких-то иных вполне реальных жизненных коллизий
Что со мной? Мне кажется, я вижу два солнца, дважды вижу Фивы, весь семивратный город… Мне кажется, что ты идешь впереди нас в образе быка и что на голове у тебя выросли рога. Уже не подлинно ли ты зверь? С виду ты похож на быка…
Еврипид. Вакханки // Еврипид. Трагедии. Т. 2. М.: Ладомир, 1999. С. 644.
Так говорит Пенфей, один из персонажей пьесы Еврипида «Вакханки», обращаясь к Дионису, божеству вина и подземного мира. Пенфей, царь Фив, не верил в могущество Диониса и пытался прогнать из города. Через некоторое время после этих слов он будет разорван на части своей же матерью Агавой, находящейся в вакхическом исступлении.
Мать первая увидит его, как он с голой скалы или дерева поджидает ее подруг и кликнет менадам: «Кто этот лазутчик, вакханки, явившийся сам на гору подсматривать за бежавшими в горы кадмеянками? Кто мать его? Не женщина его родила, нет, это отродье какой-то львицы или ливийской Горгоны»
Там же. С. 648. .
Собственно, Пенфей в образе львенка – плод воображения его матери Агавы. Он не более реален, чем сам Дионис с рогами быка. Единственный существенный «недостаток» Пенфея в этой ситуации – то, что он смертен.
Но, выйдем из области метафизики! Можно провести параллель между концепцией «двойного видения» и жираровским представленим о психозе. С его точки зрения, в основе циклотимии или маниакально-депрессивного психоза лежит одержимость воображаемым двойником, одержимость, которая носит характер реальных человеческих отношений, с эпизодами счастливых единений и разрывов, за тем исключением, что они не видны стороннему глазу
Здесь стоит заметить, что в противовес современному сознанию, обращающемуся к метафоре животного за объяснением низменных позывов, Жирар показывает гуманизируешее значение животных в человеческой культуре. Основываясь на данных этнологии и археологии, он предполагает, что охота как практика изначально носила сакральный характер: животному предназначалось заменить человеческую жертву. Например, в культе Диониса на новорожденного теленка надевали охотничью сапоги, которые, как считалось, носил сам бог, и приносили животное в жертву как младенца, олицетворенного Диониса
Вопреки распространенному обвинению, что Евангелие не смогло поднять животное с его иерархически низшей по отношению к человеку позиции (те, кто считает, что это правильно, пусть вспомнят, что до грехопадения, пребывая в райском саду, человек говорил с животными на одном языке), все-таки нужно заметить, что образ Христа , как библейский, так и литургический – это образ агнца (традиционно закалаемого на иудейсвую Пасху): «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1, 29).
Как будто подчеркивая известное противопоставление дионисийской – религии похмелья, уничтожающей индивида, растворяюшей его в прабытие, и аполинийской – религии провидческих сновидений, чистоты, воли и искусств
Свидетельства гонений – мифы. Они содержат гонительские стереотипы. Эдип. Чума терзает Фивы – это первый стереотип. Эдип виновен, потому что он убил своего отца и женился на своей матери – это второй стереотип. Третий стереотип – виктимные признаки. Во-первых, физический недостаток – Эдип хромает. Во-вторых, он явился в Фивы никому не известным чужестранцем. Наконец, он сын царя и сам царь – законный наследник Лайя. Подобно множеству других мифологических персонажей, Эдип ухитрился соединить периферийную и центральную маргинальность. Подобно Одиссею в конце «Одиссеи», он то чужестранец и нищий, то всемогущий властитель
Жирар Р. Козел отпущения. С. 47. .
К сложному, многоликому персонажу – отцеубийце, нарушившему законы природы и, одновременно, великому праведнику, Жирар подхождит с другой системой понятий. Эдип, с его точки зрения, не столько трагическая жертва собственной судьбы, предопределенной равнодушными богами, но и своей веры в гонителей. Обстоятельства – чума, разоряющая Фивы, и окружающие люди (мудрец Тиресий, Креонт) сеют в нем сомнения. Эдип расследует обстоятельства собственной жизни, до тех пор пока не узнает правду: он убил отца и стал мужем своей матери) – пророчество Дельфийского оракула, которого от так боялся, исполнилось. В порыве безумия он ослепляет себя, символически кончает с собой, не найдя себе места ни среди живых, ни среди мертвых.
Аристотелевское понятие hamartia (древнегреч. ошибка, оплошность) концептуализирует поэтическую минимализацию вины. Она предполагает скорее простую оплошность, вину по недосмотру, нежели полноценное злодеяние древних мифов. Перевод этого греческого термина французским faille tragique, английским tragic flaw, создает представление о ничтожной ошибке, единственой трещинке в однородном массиве непроницаемой добродетели. Пагубный аспект священного сохранен, но сведен к строжайшему минимуму, логически необходимому для оправдания неизменно катастрофических последствий
Там же. С. 133–134. .
Аристотелевское понятие не совсем ясно для исследователей античной литературы: трагическая ошибка подразумевает тот факт, что жертвой ее становится хороший человек. Красота личности Эдипа заключается не только в его мудрости (он разгадал загадку сфинкса), но и в его воле к познанию истины и к принятию возмездия за свои проступки. Для Жирара очевидно, что эта воля к возмездию и делает из Эдипа идеального «козла отпущения». Исследователи античности утверждают, что в афинском суде различалось преднамеренное убийство и убийство в целях самозащиты
Миметическое сотрудничество жертв с палачами продолжается в средние века и даже в нашу эпоху, но в ослабленных формах. Нам говорят, что в XVI веке ведьмы сами выбирали костер: им хорошенько объясняли ужасность их злодейств. И еретеки нередко требовали казни, которой заслуживают их гнусные верования, и было бы немилосердным их этой казни лишать. Точно также в нашу эпоху бешеные собаки всех сталинизмов признаются даже в большем, чем от них требуют, и радуются ожидающей их справедливой каре. Я не думаю, что такой тип поведения можно объяснить лишь страхом. Уже Эдип присоединяется в единодушному хору, который делает из него самую гнусную из скверн; его тошнит от самого себя и он умоляет Фивы, чтобы и они извергли его
Жирар Р. Козел отпущения. С. 109. .
Здесь снова возникает вопрос забвения или нежелания видеть. Полемизируя с Фрейдом, Жирар отвергает возможность вытеснения внутренних конфликтов. Он считает, что вытесняется или забывается сам факт существования жертвы. Именно этим он объясняет необыкновенную легкость нахождения и принесения жертвы: об этом никто не вспомнит, даже сам факт жертвенности никому не придет в голову. Так случилось с Эдипом – идеальльным виновным, с точки зрения современного сознания.
По мнению Жирара, в гонительском сознании жертва проходит через двойное преображение, сначала пагубное, а потом благодетельное. Поскольку человеческое сознание дихотомично и не может мыслить вне рамок двух полюсов, например «гибель-спасение», «наказание-награда», жертва облагораживается самим фактом произведенного над ней насилия. Она облагораживается до такой степени, что чудо воскресения становится рациональным и естественным:
Если эта жертва способна распространять свои благодеяния на тех, кто ее убил, и после своей смерти, значит она либо воскресла, либо не умерла по-настоящему. Каузальность козла отпущения навязывает себя с такой силой, что даже сама смерть не может ее остановить. Чтобы не отказываться от жертвы как от причины, эта каузальность ее, если потребуется, воскресит, обессмертит, по крайней мере, на время, – в общем, изобретет все, что мы называем трансцедентным и сверхестественным
Там же. С. 29. .
В евангельском контексте термин «Преображение» имеет событийное значение: предъявления Иисусом Христом своей божественной природы ученикам (Мф. 17. 1-8). Ф. Ницше, говоря о картине Рафаэля«Пресуществление»
В поисках ответа обратимся к лагерным воспоминаниям. Ангелина Карловна Рор, находившаяся на грани смерти из-за кишечной инфекции, описывает видение, бывшее ей в бреду. В центре видения была беспомощная вшивая старуха – она-то и спасла Ангелине жизнь.
Итак, я осталась со старухой одна, хотя я ее не видела и о ней не думала. Вдруг раздалось кряхтение, старуха доползла до моей кровати и, цепляясь за нее, с огромным трудом поднялась с пола. Она возвышалась над железной спинкой в ногах и пристально смотрела на меня. Жар то ли помутил мой рассудок, то ли наоборот, дал возможность видеть то, чего не видишь в обычные дни, – передо мной возникло лицо из потустороннего мира. В нем не осталось ничего земного, оно было сморщенным, маленьким и нереальным. Только глаза, темные и неестественно большие, горели словно факелы. Старуха долго и неотрывно смотрела на меня, не говоря ни слова. Я читала в ее глазах пророчества небес, но не успокаивающие, нет, зловещие, и я не поклянусь, что не увидела ее сверкающего огненного меча
Рор А. Холодные звезды ГУЛАГа / пер. с нем. Н. Палагиной. М.: Звенья, 2006. С. 39. .
Старуха протянула Ангелине кусочек сахара, в тюрьме – невероятную роскошь, а в тех обстоятельствах – просто спасение. Она была такой же жертвой, как и другие сокамерницы. Такой же, но не совсем: те презирали старуху за крайнюю нечистоту и отрешенность от окружающих. Отрешенность человека, полностью принявшего свою судьбу и черпающего из этого силу. Увидела ли Ангелина Рор в лихорадочном бреду и полусне преображенный образ старухи? Насколько эта кажимость была реальностью духа?
|
|
Почему жертвами отпущения становятся женщины и дети? Изначально Эдип был брошенным покалеченным ребенком. Большинство комментаторов «Царя Эдипа», отмечает Жирар, сходятся на мысли, что вследствие детской травмы он уже был обречен: «Оставленный на гибель ребенок всегда бывает спасен лишь временно, его судьбу можно лишь, самое большее, отсрочить, и финал мифа лишь подтверждает безошибочность вещих примет, которые с самого раннего детства обрекли Эдипа коллективному насилию»
Жирар в пример приводит многочисленные случаи царьков африканских авторитарных государств. А переводчик Жирара Григорий Дашевский в интервью 2012 года отмечал, что концепции Жирара находят отражение в современной российской действительности. Обыденное сознание легко обрекает на мучения девочек, танцующих, то есть ведущих себя неподобающе в храме, при этом спокойно терпит нечистоплотность, а часто и глубокую аморальность людей стоящих у власти. Такое сознание принимает тот факт, что люди, стоящие у власти, могут при случае обрекать на гибель своих сограждан, но абсолютно не в состоянии принять, что женщины ведут себя неподобающе в сакральнои месте. Похожий ужас вызывают представители нетрадиционной сексуальной ориентации: позволяющие себе иную интимную, то есть, внутреннюю жизнь.
Рене Жирар больше двадцати лет искал дорогу в российский интеллектуальный мир. Перевод его книг оказался, в силу разных, в том числе печальных обстоятельсв, делом жизни поэта и латиниста Григория Дашевского. Появлению двух значительных работ Жирара «Насилие и священное» и «Козел отпущение» мы обязаны не только тонкой интеллектуальной работе Григория Дашевского, но и несломленной силе его духа.
И вот, еще одно явление «кажимости», возникающее на грани философской концепции и жизни духа. На вечере памяти Григория Дашевского его друг, поэт Д. Веденяпин вспоминал:
Мы иногда с ним договаривались. я его приглашал в гости или куда-то мы собирались вместе ехать. И я ему звонил и говорил: давай я заеду за тобой. И Гриша – иногда такое было, я заезжал, а иногда он говорил: «Я, – своим замечательным голосом, – я возьму такси». И он это говорил, и я начинал видеть какой-то совершенно невероятный прекрасный фильм, где герой надевает какое-то идеальное пальто, выходит и садится в такси. И вот, действительно, такой фильм, который дарит ощущение – не просто такой герой свободный, а то, что ты можешь быть свободным и ты можешь жить честно. В Грише это было. Он дарил тебе такую возможность.. Мы все, кто Гришу знал, были свидетелями настоящего чуда – торжества благородства над обстоятельствами. Мне кажется, пожалуй, единственный пример человека, который действительно вышел победителем из всех испытаний
Вечер памяти Григория Дашевского. 17 декабря 2013. .
Алина Гладышева
Светлой памяти Григория Михайловича Дашевского посвящается