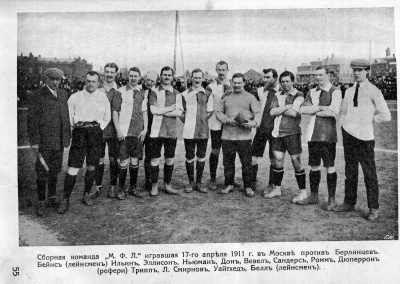Как важно (и трудно) быть советским
Советскому футболу – как и советскому искусству, советскому образованию или, скажем, советской мясной промышленности, подчас непросто было оставаться советским. Меняясь на протяжении десятилетий, футбол сохранил в себе установку сталинского времени – предполагавшую «особый путь» развития: любительство (которого в сильнейших командах на практике не было уже в конце 30-х), коллективизм (в противоположность буржуазному индивидуализму), свой собственный спортивный «кодекс чести». Из сочетания этих и еще многих других (подробнее – Р. Эдельман. Серьезная забава. История зрелищного спорта в СССР. М., 2008) факторов складывался образ советского футбола, внутри которого временами проступали черты столь своеобразные, что, как и «американский футбол», футбол советский порой можно было бы считать отдельным видом спорта. Об особенностях его правил в разное время рассказывали несколько историй.
Тактика. Дубль-вэ
Страдания советских тренеров второй половины 30-х годов, которые сначала ничего не знали (из-за малого количества международных матчей), а затем вынуждены были ругать новую заграничную тактическую схему игры «дубль-вэ» многократно описаны в мемуарной литературе (Н. Старостин. Футбол сквозь годы. М., 1992 – А. Старостин. Большой футбол. М., 1964 – М. Якушин. Вечная тайна футбола. М., 1988).
Антисоветская суть игры в новом построении заключалась, во-первых, в ее буржуазном происхождении (да еще и в английском названии – только-только стали вытравливаться из футбольного обихода «голкиперы» (вместо «вратари»), «беки» (вместо «защитники»), «корнеры» (вместо «угловые») итд.) и, во-вторых, в, якобы, оборонительной направленности.
О трусливой защитной тактике «дубль-вэ» компетентно могли рассказать игроки московских «Локомотива» и «Динамо», проигравшие перестроенной по этой тактике сборной Басконии три матча с общим счетом 6:14.
Победа московского «Спартака», сыгравшего против басков по их же тактике, на время легитимировало в СССР заграничную схему. Однако, победив в 1937/1938 гг. и в чемпионате, и в кубке, «Спартак» с 1940-го года вдруг объявил, что будет искать для себя новую схему игры. Подписанный пакт Молотова-Риббентропа, начало войны никак не давало возможности простым советским футболистам брать на вооружение хоть что-то британское или англоязычное. До начала программы ленд-лиза оставалось еще полтора года.
Переходы. Академик Сахаров
Своеобразие социалистических товарно-денежных отношений превратило систему перехода игроков из команды в команду в одно из самых интригующих развлечений для болельщиков и ученых-исследователей. Игрока нельзя было «купить» – поскольку записи «футболист» в трудовой книжке он иметь не мог (формальный любительский статус футбола), однако его можно было «переманить», предложив лучшие условия личного контракта (квартиру, машину, дачу). Впрочем, «заинтересовать» очень часто можно было и более прозаическим образом – в ЦСКА «призывались» игроки призывного возраста (недовольных ждала командировка в «СКА» (Хабаровск)), «Динамо» рекрутировало себе молодежь силами ГБ (местные республиканские «Динамо» – Киева, Минска, Тбилиси пользовались большой поддержкой своих ЦК). «Спартаку», «Торпедо», «Локомотиву» также случалось в буквальном смысле похищать своих новых игроков из провинциальных команд, ссаживать с поездов, увозить из гостиниц посреди ночи ит.д. ит.п. Подобная практика, не являвшаяся ни для кого секретом, одновременно служила бесперебойным источником вдохновения для авторов многостраничных газетных стенаний о «безнравственности» игроков, предающих родной коллектив, двуличности футбольных функционеров, всеобщем забвении таких понятий как «честь флага» и «клубный патриотизм». В этом же ключе пересказывалась история одного из образцовых спартаковских игроков, Сергея Сальникова, поигравшего 4 года за «Динамо», и тем самым спасшего своего отчима от смерти в северных лагерях ГУЛАГа.
Впрочем, в постсталинское время подобные истории все чаще приобретали комический оттенок. Тема «предательства» родного футболиста была уже настолько привычной, что стала почвой для исторических анекдотов, самый известный из которых пересказывает Бенедикт Сарнов в своей книжке «Наш советский новояз» (М., 2002):
«На одном московском заводе готовился какой-то большой митинг. По какому поводу – не помню, да это и неважно. <…> Дочитав свою речь до конца, он <докладчик> аккуратно сложил бумажный листок, на котором она была напечатана, и спрятал его в карман.
– А теперь, товарищи, – сказал он, – я хочу сказать про Сахарова. Это что же получается! Мы дали ему всё! И зарплату высокую, и премиальные, и новую квартиру. А он – перебежал в киевское «Динамо»!». (С.383).
Правила игры. Офсайд
Одну из поразительных особенностей позднесоветской игры отметил публицист Сергей Королев: советским футболистам в международных матчах было чрезвычайно трудно приспособиться к игре соперника, использующего «искусственный офсайд».
В футболе правило о «положении вне игры» было придумано специально для того, чтобы все игроки соперника не толпились у чужих ворот, ожидая мяча – и долгие годы казалось чем-то вроде необходимого «костыля», опираясь на который, игра приобретала возможность двигаться более плавно и равномерно – с игроками, двигающимися вокруг мяча.
Изобретение и активное использование «искусственного офсайда», как очень точно определяет Королев, основывалось на вере «в приоритет права и принципиальную реализуемость закона. Ибо, если не верить абсолютно и сразу в то, что судья, застигнув игрока в офсайде, непременно махнет флагом и не даст забить или же не засчитает гол забитый, то и прием этот нет смысла применять» (совершенно (не)случайно большими специалистами в области искусственного офсайда были бельгийские футболисты, выросшие в стране, которую трудно заподозрить в неуважении к праву).
В советском футболе новая тактическая идея вызвала недоумение:
«Наши, долго считавшие, что право – это буржуазная выдумка, футбольное поле – это место, где выявляется преимущество одной социальной системы над другой <…> напрочь выбивались из колеи, когда их <искусственные положения вне игры> применяли другие» (ссылка).
В трёх этих историях нет общей морали. Мораль – прерогатива советского суждения о футболе. В нашем суждении о советском футболе мы лишь характеризуем его как футбол «ограниченный» – обладая множеством плюсов в сравнении с западным спортом (система массовой спортивной подготовки молодежи, бесплатные детские спортивные секции, финансовая государственная поддержка и немало другого), он уступал ему в степени свободы в применении наиболее успешных и проверенных на практике идей. Слишком уж важно и трудно было оставаться советским.