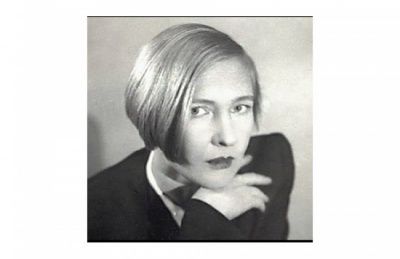«И каждый думал и молчал о чем-то о своём…»
г. Саранск, Мордовия
Научный руководитель Ю. В. Горшкова
Мои сверстники, 16–17- летние подростки, воспринимают Великую Отечественную войну как что-то, уже ушедшее в далекое прошлое. Для нас она была слишком давно, и свидетелей остается с каждым годом всё меньше.
Но что необходимо сделать, чтобы сохранить память? Ведь восьми уроков для изучения Отечественной войны катастрофически не хватает – скачки «галопом по истории» создают путаницу в голове, в которую добавляются мифы о героических подвигах Матросова, Космодемьянской, о том, что солдаты шли в рукопашную с криками: «За Родину, за Сталина!», о 28 героях-панфиловцах.
Мой прадед, Усман Тенишев, прошедший через всю войну, никогда не смотрел фильмы и передачи о войне. «Неправда всё это, не было такого», – таков был его ответ на вопрос, почему он уходит от телевизора.
Зачем новому поколению нужна память о войне?
Впервые интерес к теме Отечественной войны и к судьбам моих земляков, не вернувшимся из этой страшной мясорубки, возник у меня несколько лет назад, в праздник Дня Победы.
Мы с семьей пошли в музей Боевой Славы, где я впервые увидела Книгу Памяти Республики Мордовия. Там я нашла нужные мне страницы с перечисленными именами и датами призыва, временем и местом гибели моих односельчан и захотела сделать ксерокопии. Сославшись на праздничный день, мне отказали. Я вновь пришла в будний день, но дальше поста охраны меня не пропустили. На все мои просьбы: «Пожалуйста, сделайте мне ксерокопию нескольких страниц или дайте хотя бы просто переписать ручкой фамилии павших односельчан, моих погибших родственников», – отвечали категорическим отказом. «Нельзя!» – из уст музейных работников это звучало как приговор. Я не могла понять, почему мне отказывают, что в этих книгах секретного?!
Мне хотелось рассказать односельчанам о том, где погибли их родственники во время войны и где похоронены. Ведь не у всех есть эта информация.
Через какое-то время я отправилась в республиканскую центральную библиотеку. И там, без всякой надежды, попросила в читальном зале эту книгу. Она была! Мне ее выдали по первому требованию! Я сделала ксерокопии страниц с данными о Тенишевых, Бахтеяровых, Суховых, Богдановых из сел Новое и Старое Кадышево и Шехмаметьевых из деревень Лобановка и Акчеево. Из Лобановки, которая находится в 3-х километрах от Нового Кадышева, родом моя бабушка, а её девичья фамилия – Шехмаметьева.
Все сведения я привезла в деревню. Мне эти имена, фамилии, годы призыва ни о чем не говорили. А вот мой дед знал многих.
Списки погибших Шехмаметьевых бабушка взяла с собой на хатем (поминальный обед) в Лобановку и показала их бывшим односельчанам. Оказывается, не все знали о том, где погибли их родственники. Сколько добрых слов было передано мне через бабушку!
От кадышевских уроженцев Кямиль Сухов узнал, что его дядя Халим Сухов, 1900 года рождения (до войны в селе у него было прозвище «большевик»), в 1942 году умер от ран в госпитале города Волоколамска и там же похоронен.
Но, конечно, я нашла лишь крупицы информации. Решение писать о войне окончательно пришло 4 мая 2011 года. Я была в Москве на церемонии награждения победителей ХII конкурса «Человек в истории. Россия – ХХ век». В 8 утра мне позвонила взволнованная мама и сообщила, что поисковый отряд обнаружил под Ржевом останки моего двоюродного прадеда – Хафиза Шехмаметьева, 1904 г. р.
 Из большого количества найденных погибших солдат, только у него был солдатский медальон. В нём прочитали имя жены – Магира, место проживания – деревня Старое Кадышево Ельниковского района Мордовской АССР. Но этой деревни нет уже лет 25, а на ее месте обрыв реки. Все жители разъехались. Как найти родственников? Через жителей соседнего татарского села Вачеево поисковики выяснили, что Шехмаметьев Х. А. – родной дядя моего деда, Тенишева Халима Усмановича, с помощью которого и нужно искать ближайших родственников, если они есть. Через мою бабушку, Тенишеву Алию Халимовну, поисковики, наконец, нашли дочь Хафиза – Няимю, 1933 г. р., внучку и правнука, которые проживают в Санкт-Петербурге.
Из большого количества найденных погибших солдат, только у него был солдатский медальон. В нём прочитали имя жены – Магира, место проживания – деревня Старое Кадышево Ельниковского района Мордовской АССР. Но этой деревни нет уже лет 25, а на ее месте обрыв реки. Все жители разъехались. Как найти родственников? Через жителей соседнего татарского села Вачеево поисковики выяснили, что Шехмаметьев Х. А. – родной дядя моего деда, Тенишева Халима Усмановича, с помощью которого и нужно искать ближайших родственников, если они есть. Через мою бабушку, Тенишеву Алию Халимовну, поисковики, наконец, нашли дочь Хафиза – Няимю, 1933 г. р., внучку и правнука, которые проживают в Санкт-Петербурге.
Ещё в 1942 году в деревню пришло извещение о том, что рядовой Шехмаметьев Х. А. пропал без вести. Но в родной деревне Хафиза считали предателем из-за того, что уже после войны, в 50-е годы, один из его сослуживцев – татарин из села Чурино, что находится всего в 3-х километрах от Старого Кадышева, сказал о Хафизе: «Наверное, он перешёл на другую сторону». И после войны некоторые из родственников считали, что возможно, он живёт где-то за границей и просто не дает о себе знать, так как не хочет считаться предателем.
Война в моей семье
После всех этих событий я решила, что буду собирать воспоминания о войне тех, кто ещё помнит это время, и тех, кто слышал о войне со слов своих родителей. Ведь каждый помнил о войне что-то свое, то, что его поразило, потрясло, что так и не смогло забыться за все последующие десятилетия.
Июль 2011 года я провела в селе Новое Кадышево. Беседовала с пожилыми односельчанами, задавала им множество вопросов о них и их родственниках в годы войны, вглядывалась в лица на пожелтевших фотографиях из семейных альбомов, читала полустертые чернильные строки, записанные на «фотокарточках». Слушала комментарии к снимкам.
Брату моей прабабушки – Алиму Шехмаметьеву, 1918 г. р., оставалось 2 недели до демобилизации, когда 22 июня началась война. Мыслями он был почти уже дома в Старом Кадышеве, и командир уже сказал, что в начале июля Алим поедет домой. Но возвращение в родную деревню состоялось только спустя 4 года, в июне 1945-го.
Ещё один двоюродный прадед – Ханяфи Шехмаметьев, 1924 г. р., в 18 лет был тяжело ранен, 4 месяца пролежал в госпитале. И вот когда его уже определили в команду выздоравливающих, поступил приказ: «Отвести 18 пленных немцев к общей колонне», которая находилась за 14 километров от госпиталя. По-тихому сказали: «А не доведете – шлепните их где-нибудь. Кому они нужны?» Пристрелили немцев у оврага, конвоировать было неохота – далеко. Вот такая жестокость.
Мой дед рассказывал, что его двоюродный брат Хуснетдин Тенишев (в селе его называли просто Хоснёк) осенью 1938 года был призван на действительную военную службу. С ноября 1939 года его воинская часть принимала участие в финской кампании. Подразделение, где воевал Хоснёк, попало в окружение. Постоянно делались безуспешные попытки прорвать кольцо. Не было продовольствия, ели убитых лошадей. Хуснетдин к конине с детства привык, а каково было другим бойцам, которые в жизни не ели лошадиного мяса? Практически повсюду «работали» финские снайперы – «кукушки», убивая красноармейцев. Приходилось в сильные морозы целыми днями находиться в снегу, финны буквально не давали головы поднять. И вот в этой кошмарной обстановке Хоснёк в каком-то странном порыве пообещал себе: «Если финскую переживу, женюсь четыре раза». Наверное, как истинный мусульманин, он решил так угодить Аллаху, да и себе тоже. Это было, по меньшей мере, странно, потому что в то время он уже был женат, а его дочери уже исполнилось два года. Финскую войну он пережил и потом, во время войны с немцами, был дважды ранен. А после Победы ему сказали: «Ты действительную еще не дослужил, поэтому домой не собирайся – будешь дослуживать». А так как служил Хоснёк во флоте, где срок службы был 5 лет, домой он вернулся только весной 1947 года. Война и послевоенная служба заняли у него 9 лет. А на память о «теплом» финском снеге он получил туберкулез.
Но обещание свое не забыл: до своей смерти в 1957 году он женился ровно четыре раза.
Двоюродный брат моего деда – Ариф Тенишев, 1918 г. р., к 1941 году уже отслужил действительную, вернулся в деревню, в начале июня 1941-го женился и вместе с женой сразу уехал в Ленинград к родственникам. 23 июня Ариф собрал вещмешок и пошел добровольцем на фронт, сказав жене на прощание: «Не сегодня, так завтра всё равно призовут. Ждать нет смысла. Лучше пойду сам». Вскоре прислали извещение, что Ариф пропал без вести где-то под Ленинградом.
После войны его отец Кярим Тенишев до конца 1960-х годов неоднократно писал в военкоматы Ленинграда и Ленинградской области, делал запросы, пытался найти хоть какую-то ниточку. Безуспешно. В «Книге памяти Республики Мордовия» напротив имени и фамилии Арифа стоит всего одна скупая строчка: «Погиб в бою. Август 1941 года». Больше о нем ничего не известно.
Вот что мне рассказала Зейнаб Бахтеярова, 1924 г. р.: «Мой брат Идяят Богданов, 1921 г. р., до войны встречался с местной учительницей Няимёй. Летом хотели сыграть свадьбу. Но пришла война, Идяята призвали на фронт. К весне 42-го у Няими родилась девочка, вся деревня прекрасно знала о том, кто был отцом ребенка. В 1942 году нашим родителям сообщили, что Идяят пропал без вести. А Няимя? Не жена и не вдова, с маленьким ребенком на руках. В 1945-м вернулся домой другой брат – Усман, и родители заставили его срочно жениться на Няиме и привести ее в дом вместе с маленьким ребенком. Ему сказали: „В этой девочке наша кровь, и расти без отца она не будет. У нее будет наша фамилия. Пусть не с Идяем, а с тобой“. Брак этот оказался на редкость удачным, они прожили вместе больше сорока лет».
Мой прадед Усман Тенишев во время войны возил почту. На передовой не был, но под бомбежки вместе с автоколонной не раз попадал. Ночью ездили с маскировочным светом – фары полностью закрыты, оставлена только узкая полоска. За включение фар – расстрел на месте. Шоферы шутили, что казаху Рафику Джасинову, когда он ночами вглядывается в практически не освещенную дорогу, прищуриваться не надо – у него глаза и так узкие.
 Командира части прадед называл «гявре» – «еврей» и говорил, что у того был свободный разговорный немецкий. В общении с пленными немцами переводчик ему не требовался. У командира было литературное прозвище. Этого умного и интеллигентного человека кто-то из более-менее грамотных солдат назвал Дон Кихот, а бойцы, в основном люди деревенские, в лучшем случае только кое-как читать-писать умеющие, перефразировали это малопонятное имя в «тонкий ход». «Это потому, что сам он был высокий, а ноги длинные, тонкие», – был уверен Усман-бабай, который самостоятельно выучил русский алфавит, научился немного читать по-русски, а писал «как Аллах на душу положит».
Командира части прадед называл «гявре» – «еврей» и говорил, что у того был свободный разговорный немецкий. В общении с пленными немцами переводчик ему не требовался. У командира было литературное прозвище. Этого умного и интеллигентного человека кто-то из более-менее грамотных солдат назвал Дон Кихот, а бойцы, в основном люди деревенские, в лучшем случае только кое-как читать-писать умеющие, перефразировали это малопонятное имя в «тонкий ход». «Это потому, что сам он был высокий, а ноги длинные, тонкие», – был уверен Усман-бабай, который самостоятельно выучил русский алфавит, научился немного читать по-русски, а писал «как Аллах на душу положит».
Зимнее обмундирование у шоферов (водителями они себя никогда не называли) автобата было гораздо лучше и теплее простых форменных шинелей. Это доказывает фотография, сделанная 15 февраля 1942 года в Москве, где прадед и его сослуживцы одеты в добротные овчинные форменные тулупы до колен, на поясах ремни, на ногах валенки, руки в кожаных перчатках. Шапки у двоих армейские солдатские, у троих – цигейковые.
Поразили его жесточайшие бои за город Смоленск, несколько раз переходивший из рук в руки. После освобождения Вязьмы в марте 43-го прадед проехал по разоренным улицам города. Добила картина первых послеоккупационных будней: трое ребятишек лет 9–10 катались с горки на убитом немце. Затаскивали на гору замёрзшее тело, усаживались на него и съезжали, как на санках. Дети не боялись покойников, давно привыкли к валяющимся трупам. И во время войны им хотелось с горки кататься, а санок или дощечек каких-нибудь не было – всё на растопку пустили, вот и пришлось использовать подручные средства – замерзших убитых немцев, их предостаточно было вокруг. Люди ко всему уже привыкли. Тем же погибшим немцам отрубали ноги, чтобы дома в тепле снять и забрать сапоги, ведь на морозе не всегда удавалось это сделать. Обувь была очень нужна, а взять ее было негде, поэтому некоторые люди шли даже на это.
В Белоруссии часть Усман-бабая вывозила почту со склада, находившегося в здании бывшей церкви. Два ЗИС-5 были отданы под загрузку. В одном из них не было ни капли бензина. Немцы наступали, велся массированный артобстрел, работала авиация. Нужно было срочно уезжать, но сопровождающий почты грозил застрелить на месте за невыполнение приказа, если бросят почту. Нагрузили под завязку обе машины, одна взяла другую на буксир. Только отъехали, как в здание церкви попал снаряд и разрушил две стены и угол здания. (У прадеда в начале войны была полуторка, а уже потом он ездил на ЗИС-5).
На мосту перед границей с Восточной Пруссией прадед увидел надпись, сделанную на куске доски: «Вот она, проклятая Германия!»
В Кёнигсберге прадед в одном из домов увидел расшитый арабской вязью коврик для намаза (молитвы) – намазлык. Усман-бабай крайне удивился. «Значит, и в Восточной Пруссии были мусульмане», – решил он. Но я думаю, что этот красивый коврик мог быть прислан домой в качестве сувенира кем-то, кто воевал или на Восточном фронте, или в Северной Африке в корпусе Роммеля в Ливии.
В этом же городе к машине прадеда подошел немецкий мальчик лет восьми с протянутой рукой: «Камрад, клеб» («Товарищ, хлеб»). У прадеда дома остались пятеро ребятишек, поэтому без слов он достал кусок хлеба и отдал мальчику.
В начале мая 1945 года довелось Усман-бабаю подвозить пассажира – армейского капитана. По дороге они увидели, что на обочине стоит, подняв руки, немец в военной форме. Остановились. Немец начал спрашивать, где немецкая пленная колонна. Решили подвезти. Во время пути он всё время показывал 4 пальца на руке и добавлял: «Kinder» («Дети»). Может быть, надеялся на какое-то снисхождение к себе. Война закончилась, он не хочет никому зла, его дома ждут четверо детей. Капитан предложил застрелить немца и забрать у него наручные часы. Прадед не дал этого сделать и доставил немца до общей колонны пленных. А того капитана всегда вспоминал недобрыми словами: называл бандитом с погонами.
В Восточной Пруссии прадеда, как человека деревенского, поразила сельская жизнь: чистые деревни, аккуратные дороги, в домах печи кафелем обложены, о которых он всегда говорил: «Хоть брейся, на них глядючи», всегда сытый, ухоженный скот. Одну фразу он с грустью повторял всегда: «Мы так и через 200 лет жить не будем». До самой смерти прадед никогда не называл Кёнигсберг Калининградом: «Какой он Калининград? Это Кёнигсберг».
Из Восточной Пруссии прадед присылал посылки с разными вещами: швейную машинку, немецкие солдатские сапоги, два велосипеда (мужской и женский без рамы – таких в деревне вообще никогда не видели), несколько отрезов ткани, одеяла, немецкие солдатские сапоги, солдатский ремень с надписью на бляхе «Gott mit uns» («С нами Бог»). Но отправлял он такие посылки с подарками не только в родную деревню законной жене, детям и матери, но и своей гражданской жене, жившей в Москве. «Я ей еще больше всего отправлял», – как-то разоткровенничался Усман-бабай. После Победы он несколько месяцев находился в госпитале с брюшным тифом, а потом три месяца жил в Москве со своей гражданской женой. Домой Усман-бабай вернулся в середине февраля 1946-го. С собой у него был только добротный фанерный чемодан с кожаной ручкой и алюминиевыми уголками. Привез прадед несколько пачек папирос «Nord» по 100 штук в каждой. Прадеду организовали шикарную встречу: прабабушка испекла в русской печи большой круглый пирог с картошкой. Мордовка из соседней деревни, узнав, что Усман возвращается, принесла трехлитровую стеклянную бутыль самогона, называемую «четверть». Гости с удовольствием курили папиросы, удивляясь такой роскоши: до этого в деревне видели только самосад, из которого и делали самокрутки. Были у прадеда с собой советские рубли и немецкие марки. На наши, советские деньги было куплено 12 пудов сена, а немецкие марки Усман-бабай летом 46-го отдал соседскому племяннику, служившему майором в Германии. Тот обещал что-то привезти за это, только сейчас уже никто не помнит, привез он что-нибудь или нет. За папиросы летом 46-го работающие в колхозе подростки давали прадеду сено: обменивали 1 пуд сена на 15–20 папирос.
Другой мой прадед – Халим Шехмаметьев из деревни Лобановка – был тяжело ранен на Курской дуге. Бабушка помнит рассказ о том, как его ранили: бежал с винтовкой в атаку, увидел, что друг упал, повернул к нему – очнулся в госпитале. Там лежал 4 месяца. Из-за очень большого ежедневного поступления раненых медперсонал просто физически не мог обеспечить нормальный уход для всех бойцов. У прадеда осколок раздробил лопатку – ее удалили, в спине осталась большая яма, левая рука не работала совсем. Лето, жара, мухи. У прадеда рана нагноилась, ругал медсестер, которые плохо ухаживали за раненными.
Письма домой писал арабскими буквами – в детстве, как и все, окончил мусульманскую школу. Но прабабушка была неграмотная, поэтому письма ей «читала» сестра мужа. Но читала, вернее, говорила, совсем другое. Когда это выяснилось, то письма прадеду уже по-русски писала русская учительница, а за написание и прочтение фронтовых треугольников прабабушка приносила ей что-то из продуктов.
 После госпиталя, в конце ноября 43-го, прадеда комиссовали и отправили домой. В райвоенкомате он был направлен в город Краснослободск, в 23 км от его родной деревни, охранять почту. Там он пробыл 8 месяцев, иногда приходил домой с пустым вещмешком, чтобы взять хоть какие-нибудь продукты. Завидев его, мальчик-сосед всегда кричал прабабушке: «Тётя Халима, мешок идет». Прабабушка давала мужу хлеб, просо, картошку, хотя ей самой с четырьмя детьми было очень нелегко. К осени 44-го прадеда окончательно отпустили домой.
После госпиталя, в конце ноября 43-го, прадеда комиссовали и отправили домой. В райвоенкомате он был направлен в город Краснослободск, в 23 км от его родной деревни, охранять почту. Там он пробыл 8 месяцев, иногда приходил домой с пустым вещмешком, чтобы взять хоть какие-нибудь продукты. Завидев его, мальчик-сосед всегда кричал прабабушке: «Тётя Халима, мешок идет». Прабабушка давала мужу хлеб, просо, картошку, хотя ей самой с четырьмя детьми было очень нелегко. К осени 44-го прадеда окончательно отпустили домой.
Другая война в памяти односельчан. Пленные, дезертиры, предатели – кто они?
Я подолгу разговаривала с пожилыми сельчанами, и вот что мне удалось узнать.
Зяки Богданов, который дожил до конца 70-х годов, рассказывал моим прадеду и деду о том, что во время войны его однополчанин застрелил другого для того, чтобы потом снять с него хорошие кирзовые сапоги. У человека, который застрелил своего товарища, сапоги были не по размеру, малы слишком – растерли ноги в кровь до мяса, да еще и продырявиться успели. А у убитого была нормальная кирза, не дырявая и не маленькая. Бежали в атаку, тут и застрелил своего под шумок, а после атаки снял с убитого сапоги. Мне как-то трудно поверить в такой беспредел.
Фяттях Сухов, 1909 г. р., раньше вернулся с войны из-за контузии. Речь была потеряна. Но со временем в селе стали поговаривать, что речь к нему вернулась, только его семья никому об этом не говорит, так как боятся, что его могут лишить пенсии по инвалидности. Мой двоюродный прадед Равиль, зайдя неожиданно домой к Суховым, слышал, как Фяттях вполне сносно разговаривал с близкими. Иногда его сын, сильно разозлившись, выкрикивал отцу: «Вот возьму и расскажу всем, что ты разговариваешь». До самой смерти, в начале 1980-х, он изображал немого, постоянно изъясняясь только знаками.
Уроженец Нового Кадышева Алим Богданов, вернувшись с войны, несколько лет проработал в колхозе, был на хорошем счету. В конце 1940-х его арестовали за то, что сдался немцам и активно с ними сотрудничал. Вышли на Богданова, арестовав его сослуживца из села Алкиманово Темниковского района Мордовской АССР. Выяснилось, что они несколько лет работали на немцев. В селе никто не мог поверить во всё это – настолько хороший, добрый, спокойный был парень. Богданову дали 25 лет, отсидел 10. Вернувшись, сказал, что на всю жизнь ему лесоповала хватит. Я задумалась. Что это? Боязнь голода, невыносимых условий жизни, страх перед побоями? Или желание выжить любой ценой? А скорее всего, никого он не предавал, ведь почти на всех, побывавших в немецком плену, вешали ярлык предателя. Что было тогда на самом деле, увы, уже не узнать. Сейчас можно только догадываться и строить всяческие предположения.
До середины 1954 года в Ново-Кадышевской МТС работал механиком Виктор Иванович Бутырин. Родом он был не из Мордовии. Говорили, что к первой семье после войны он не вернулся. Его вторая жена, Мария Ильинична, преподавала историю в школе; татарские дети это имя не могли толком выговорить и называли её «Марьличина». Ее боялась вся школа. Их приезд никого не удивил – в МТС приезжало много разных специалистов.
Летом 54-го стало известно, что во время войны Бутырин стал предателем. Показали его фотографию в немецкой форме и с овчаркой рядом. Сказали, что он был охранником в концлагере, а после войны каким-то образом сумел скрыть своё сотрудничество с немцами. Но с прокурором района Бутырин был в дружбе, поэтому, избежав ареста, они с женой очень быстро уехали, как всем сказали, в Кривой Рог. Кто его знает, куда они отправились на самом деле. Наказания за прошлое не было. Как механик, Бутырин давал прокурору много всяких деталей, в деревне говорили – «железок». Они-то и помогли этому человеку выкрутиться, избежав заслуженной кары.
Ахать Кремчеев, из соседней деревни Вачеево, был узником концлагеря. Весной 45-го лагерь освободили американцы, в чьем секторе и оказался татарский паренёк. Американцы уговаривали его остаться и поехать в США. Для этого нужно было только подписать несколько документов. Ахать не согласился, твердо решив возвратиться на Родину. Перед отъездом провели бывших пленных по очень длинному складу, битком забитому всякими продуктами. Заведя на склад, американцы выдали всем вещмешки и сказали: «Берите всё, что надо». Вещмешки были набиты под завязку. Наши даже брали диковинную и невиданную для деревенских вещь – туалетную бумагу.
Американский сектор заканчивался на середине моста – дальше были советские войска. Перед советским сектором американцы ещё раз спросили, не передумал ли кто возвращаться в Союз. Таких не нашлось. Уже на нашей стороне бывших пленных встретили свои, привезли к особому отделу. Охранники с лейтенантом во главе тут же скомандовали: «Опростать мешки». Содержимое вещмешков сложили горкой. Вместо американских припасов наши выдали по буханке черного хлеба («Для вас и этого много, предатели!») и по гороховому концентрату. Проверка в особом отделе показала: Родина была не рада бывшим солдатам, видя в каждом из них предателя.
Ахатю повезло: его не посадили. После долгих мытарств он смог-таки вернуться домой. Но даже в 70-е годы во время каких-либо словесных перепалок кто-то из не воевавших в силу возраста «товарищей»-колхозников мог запросто презрительно сказать Ахатю: «Пленник!»
Фярит Кремчеев с осени 43-го также был в плену. Лагерь находился в Германии, и туда иногда приходили немцы, чтобы взять нескольких человек на работу. Фяриту, можно сказать, повезло: в лагерь приехал немецкий помещик и набрал 5–6 молодых парней для работы в поместье. Пленные были до такой степени истощены, что не могли даже сами сесть в телегу, помог хозяин. Первые две недели кормил очень мало, говоря, что голодным есть больше нельзя – умрут. Постепенно рацион прибавился: через пару месяцев уже было трехразовое питание плюс бутерброды, которые между завтраком и обедом выносила жена хозяина. Фярит трудился в коровнике, выполняя хорошо знакомую для себя работу, почти привычную. Только однажды хозяин обругал и ударил его за то, что парень по привычке, как в деревне, взял охапку соломы и собрался положить её перед коровой. Оказывается, у хозяина была соломорезка, в которой измельчали солому, смешивали со жмыхом и в таком виде давали коровам. «Это тебе не Россия, забудь свои старые порядки». Он уговаривал Фярита не возвращаться в Россию: «Я был у вас в Москве в 39-м году, видел очереди за хлебом. Не возвращайся туда. А здесь мы тебе жену найдем».
 Илья Иванович Чопанов в середине войны тоже попал в плен. По рассказам моего деда, Илья Иванович всегда вспоминал, что немцы бросали русским военнопленным через колючку грязную брюкву, турнепс, иногда картошку. При этом кричали: «Сталинские воры» (с ударением на последнем слоге). Наши пленные смотрели голодными глазами на бельгийцев, которых в соседнем бараке хорошо кормил Красный Крест. Илья многого не знал, не мог тогда всего понять, главным вопросом в его жизни было: «Почему так? Почему мы здесь дохнем с голоду, а они нормально едят?» Освободили узников концлагеря наши войска. И оказался тогда Илья уже совсем в другом лагере, в советском, из которого освободился только в начале 50-х.
Илья Иванович Чопанов в середине войны тоже попал в плен. По рассказам моего деда, Илья Иванович всегда вспоминал, что немцы бросали русским военнопленным через колючку грязную брюкву, турнепс, иногда картошку. При этом кричали: «Сталинские воры» (с ударением на последнем слоге). Наши пленные смотрели голодными глазами на бельгийцев, которых в соседнем бараке хорошо кормил Красный Крест. Илья многого не знал, не мог тогда всего понять, главным вопросом в его жизни было: «Почему так? Почему мы здесь дохнем с голоду, а они нормально едят?» Освободили узников концлагеря наши войска. И оказался тогда Илья уже совсем в другом лагере, в советском, из которого освободился только в начале 50-х.
А вот призванный из той же мордовской деревни на фронт Василий Цыбизов дезертировал еще в самом начале войны. Жил в родном доме то в подполе, то на чердаке. Близкие, еле-еле говоря по-русски, клятвенно заверяли, что не знают, где в данное время находится их сын и муж. В самих Мордовских Пошатах, да и в соседнем татарском Новом Кадышеве все прекрасно знали, что Цыбизов живет дома. Но боясь расправы – или застрелит, или дом сожжет, молчали.
Как рассказывали старики, в 40-е годы в середине реки Мокша, которая находится недалеко от деревни, был остров, где Цыбизов устроил тайник. Зягидулла Тенишев, 1930 г. р., старший брат моего деда, как-то заметил, что на острове незнакомый мужчина что-то прячет. Поговорил с младшими братьями и другими мальчишками, и тайник решено было откопать. А вдруг там что-то интересное?! Сказано – сделано. Тайник раскопали, найдя в нем около 50 патронов, которые потом бросили в костер. Остатки патронов отнесли в кузню, где с помощью каких-то приспособлений можно было производить выстрелы. Деревенские мальчишки были в восторге. Что это опасно, вообще никто тогда не думал.
После амнистии в июле 45-го Цыбизов вышел, уголовного преследования не было. Смело смотрел в глаза односельчанам – его же Сталин решил не наказывать. Устроился работать сторожем в старокадышевский колхоз, охранял лес. Народ его боялся, так как это был очень жестокий и злой человек. За кражу дров первым делом избивал воров сам, ломая им руки и ноги, только потом сдавал в милицию. Инвалида войны – Фяттяха Сухова, который не от хорошей жизни по зиме поехал на колхозной лошаденке в лес, чтобы хоть немного дров привезти, избил до полусмерти. А дома у Фяттяха была престарелая мать, больная жена и четверо ребятишек.
А бывший дезертир был представителем законной власти и издевался над теми, кто за него же (и вместо него!) воевал, а он в это время жил дома в тепле и удобстве и ждал лучших времен.
Во всех окрестных деревнях знали, что еще с начала 30-х годов в округе существовала банда. Старики говорили, что как только начались колхозы, появилась и банда. Не все смогли отдать свое имущество, дом, землю и смотреть, как это в одночасье стало собственностью других людей. Недовольные и возмущенные творившимися событиями, одни навсегда уехали из села, другие просто ушли бандитствовать.
Некоторые байкеевские, дезертировав еще в самом начале войны, чтобы не жить дома и не подвергать опасности своих близких, тоже пошли в банду. Так Хосяин из Байкеева ушел из деревни в конце июня 41-го, не желая идти воевать. К осени решил поселиться в полупустом доме в деревне Лобановка, на родине своей жены. Байкеевские дезертиры рассредоточились по трем татарским деревням: Новое Кадышево, Вачеево и Лобановка. Ночами они встречались, обсуждали планы дальнейших действий. В Новом Кадышеве жили в трех домах, в Вачееве – в одном доме. Время от времени дезертиры меняли место проживания. Иногда на короткое время уходили жить в Байкеево или в Черные Выселки (русско-татарская деревня в Темниковском районе). Воровали лошадей. В Новом Кадышеве хозяйка дома, где прятались дезертиры, Ханифя иногда появлялась в красивых новых вещах, которых раньше на ней не видели. Откуда ей было взять обновки, если дома было четверо детей и муж в 42-м году погиб на фронте? В селе догадывались, откуда всё это, но, боясь мести вооруженных дезертиров, молчали. Однажды Ханифя пришла на хатем (поминки) в Акчеево в красивом расшитом платке, который сразу опознала женщина из этого села. Выяснилось, что этот платок вместе с другими вещами ей прислал из Германии муж, а через некоторое время после получения посылки ее обокрали. Весной 45-го в Старом Кадышеве у эвакуированных из Ленинграда украли носильные вещи, в подкладки которых были зашиты царские золотые червонцы. Пострадавшая Магира (жена моего двоюродного прадеда) обратилась в милицию. У хозяйки новокадышевских дезертиров был произведен обыск. В сельсовет вызвали пострадавших и подозреваемых, провели опознание ворованных вещей. Но самое интересное было в том, что хозяйка дезертиров Ханифя пришла на опознание в сельсовет в ворованной юбке, принадлежавшей Магире, а та сразу узнала свою вещь. Но сказать об этом милиционерам значило оставить без матери четверых детей, у Магиры и у самой было столько же, и муж в 42-м пропал без вести. Поэтому Магира тогда никому ничего об этом не сказала.
Хозяйку дезертиров судить не стали, как-то дело замяли (в селе знали, что она была любовницей председателя сельсовета). Муж у нее погиб в 43-м году, а четверых детей легче было поднимать, получая ворованные продукты и вещи от дезертиров и пользуясь покровительством деревенского начальника.
В Лобановке дезертир жил в пустующей половине дома. В одной комнате жила прабабушка с четырьмя детьми, в другой до войны жил брат ее мужа с семьёй. Брат погиб еще в начале войны, его жена умерла от туберкулёза. Детей забрала тетка. В доме было два входа: у каждой семьи отдельное крыльцо. Также в соседнюю комнату можно было попасть, если залезть на печку, рядом с которой, через дощатую стенку, стояла печь соседей. Двух верхних досок не было, перелезть мог любой, кто пожелает.
Летом прабабушка работала сторожем на току, зимой охраняла колхозный склад. Каждую ночь ее не было дома, дети, 35-го, 37-го, 39-го и 41-го года рождения, оставались одни. Cо склада прабабушка умудрялась вытаскивать через лаз для кошек немного ржи. К палке привязывала половник и, лежа на полу, этим нехитрым орудием добывала зерно. Грамм 800, самое большее килограмм ей удавалось нагрести, если зерно лежало недалеко от входа. Объясняла просто: «Когда нас загоняли в колхоз, всё забрали: зерно, лошадь, упряжь, арбу, сани. Я возвращаю свое». Время от времени вечерами, когда стемнеет и ворота и двери уже закрывают изнутри, пекла хлеб. Черный хлеб был формовой, буханки круглые, большие. Детям выдавала по кусочку, остальное заворачивала в полотенце и опускала в подпол. Чтобы, если кто придет, испеченный хлеб не видели. Также в подполе хранила сливки – корову держала всю войну. Сливки наливала в четверть. Время от времени прабабушка замечала, что оставленного хлеба вроде как становится меньше, а сливки, простояв в подполе несколько дней, превращаются в жидкое молоко. Сначала прабабушка подумала, что хлеб отрезает старшая семилетняя дочь. Но ребенок клялся, что не виноват. Потом обвинение перешло на родственницу, жившую неподалеку. Но опять были клятвы с именем Аллаха, что эта женщина не берет чужой хлеб.
Из соседней закрытой комнаты иногда слышались звуки шагов. Старшая дочь говорила, что изредка зимними ночами из другой половины дома доносился запах растапливаемой печи. Прабабушка по-своему боролась с непонятными явлениями: ходила по комнате и громко читала молитвы на арабском языке. Потом добавляла уже по-татарски: «Коркмым, коркмым, җиннәр» («Не боюсь вас, джинны»), будучи абсолютно уверенной в том, что в пустующей соседней комнате завелись именно джинны.
Однажды спустившись в подпол, прабабушка обнаружила оброненную кем-то чужую рукавицу. Это переполнило чашу ее терпения: она решила проследить за тем, что же творится дома в её отсутствие. Вечером, уйдя на работу, она через какое-то время тихонько вернулась и стала ждать. И вот глубокой ночью через отодвинутые доски в стене возле печи из соседней половины дома перелез незнакомый мужчина и направился к подполу. Прабабушка стала громко кричать и ругаться, что поймала вора. Но вор тот был непростой – он был дезертир. Перед прабабушкой вор-дезертир встал на колени и со слезами просил не выдавать его. Она его узнала: это был муж ее односельчанки. В этой деревне жила его жена, к которой постоянно приходили милиционеры и спрашивали о том, где находится ее муж. На все вопросы женщина отвечала, что не видела его с самого начала войны, и, наверное, он где-то уже убит.
Прабабушка спросила, как он умудрялся выпивать ее сливки, не испачкав стеклянные стенки бутыли? Ответ был прост: «Через длинную соломинку. А потом доливал воду в четверть, чтобы не видно было, что сливок становится меньше». У него хватало совести забирать последние крохи у четверых детей, чей отец проливал кровь на войне, защищая таких вот трусов! После долгих уговоров, просьб, ползаний на коленях и слез, что лились ручьем, решили так: прабабушка не поднимает шум и молчит в дальнейшем, а дезертир уходит из этого дома. Ушел, правда, не очень далеко: сельчане поговаривали, что потом жил он в пустом доме на другом краю деревни.
После амнистии в июле1945 года Хосяин перестал прятаться и с семьей уехал сначала в Байкеево, а потом в Ленинград. В послевоенные годы спокойно приезжал в гости в Лобановку, навещал родственников жены. Как ни в чем не бывало, ходил на хатемы (поминальные обеды), которые давались в честь погибших на войне чьих-то сыновей и мужей. Вместе со всеми читал молитвы об упокоении душ павших сельчан. И это делал человек, который всю войну прятался по пустым домам, бессовестно забирал последние крохи у солдатских детей, чтобы только себя любимого накормить и сохранить свою жизнь! Но клеймо дезертира с него не стерлось даже после смерти.
В жизни всегда есть место подвигу и предательству, так было и будет. Можно стыдиться, а можно гордиться прошлым своей страны. Но и в том, и в другом случае важно знать, помнить и хранить настоящую, подлинную историю, как бы горька и обидна она не была.