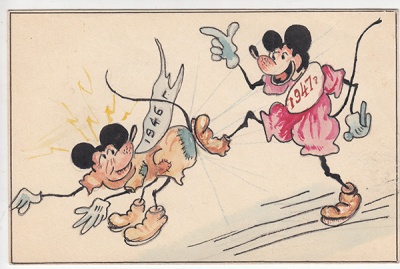«Они уверены, что мы их слышим»
Интервью Елены Калашниковой
– Обществу «Мемориал» двадцать пять лет, столько же и архиву. Вами записано множество бесед с жертвами политических репрессий в аудио-формате, на основе которых вырос Центр устной истории. Ваши собеседники живут не только в Москве и Питере, поэтому вы с директором архива «Международного Мемориала» Алёной Козловой много ездите по регионам России. У архива «Мемориала» несколько направлений деятельности. В частности, в последнее время серия видео-интервью «Последний свидетель». А как всё начиналось?
– Я – тот кулик, который хвалит свое болото, я считаю, что сердцем исторического направления «Мемориала» был и является как раз архив. Когда начал формироваться бумажный архив, тогда же стали собирать свидетельства людей о сталинских репрессиях. Делали это волонтёры – исключительно добровольцы. И аудио-архив мы начали собирать давно, тогда у нас ещё были пленочные и катушечные диктофоны. Первые же видео-интервью стали делать с 2002-2005-го, когда начали работать по программе музея концлагеря Маутхаузен. Была такая всемирная программа – «Выжившие в Маутхаузене». Это австрийский лагерь, очень много народу через него прошло, а выжить смогли немногие. Вот австрийские историки и решили найти всех выживших, собирали их свидетельства по всему миру. А мы, «Мемориал», записали тогда человек двести… Пробежали практически всю Белоруссию, большую часть России, Украину. Потом эта программа плавно перешла в следующую, тоже общеевропейскую, по истории остарбайтеров. Теперь вот уже только мемориальская – «Последний свидетель».
– А те первые волонтеры и сейчас в «Мемориале» работают?
– Нет, это были 1989-1990 годы, а эти люди и тогда были немолодыми. Вообще в «Мемориале» – это наша боль – молодых немного. Не знаю, почему, это вопрос к психологам и социологам. Может, надо «дорасти», повзрослеть для того, чтобы сюда прийти.
Замечательный английский историк, один из основоположников метода устной истории Пол Томпсон, считает, что лучший интервьюер – пятидесятилетняя «тётечка». И это понятно: когда я прихожу к восьмидесяти- или семидесятилетним информантам, они со мной разговаривают как с равной, а со студенткой они будут говорить как люди разных галактик. Информант должен рассказывать свободно, он должен быть уверен, что его слышат, понимают, сочувствуют, ловят его знаки. А если ему надо что-то разжёвывать собеседнику, объяснять – рассказ не получится.
– Как вы готовитесь к интервью? Есть ли у вас какие-то способы самонастройки?
– Я готовлюсь, наверное, точно так же, как и вы. Если завтра мне нужно к кому-то идти, я ищу, где можно о нём что-то прочитать, что-то узнать. А прежде всего, смотрю у нас в архиве.
– Как вы отбираете информантов? Почему решаете: сейчас пойдем к этому, а к тому – попозже, или вообще не пойдем?
 – По-разному бывает. Когда я думаю о том, с какими замечательными людьми мы не успели встретиться, записать их рассказы, не успели поговорить… Это просто какая-то катастрофа. Поэтому среди тех, кого мы записывали, особенно в первые годы, мы отбирали людей постарше. Но в любом случае при выборе информанта нельзя руководствоваться личной симпатией или антипатией. Был в моей пятнадцатилетней работе в «Мемориале» один случай, когда надо было терпеть рассказчицу, буквально сжав зубы. Я говорила себе: «Терпи, молчи и слушай, потому что подобного нигде больше не услышишь». Если говорить про командировки, мы выбираем город, где есть региональное отделение «Мемориала» или координатор Школьного конкурса, который нам поможет. Коллеги знают людей, их судьбы, советуют.
– По-разному бывает. Когда я думаю о том, с какими замечательными людьми мы не успели встретиться, записать их рассказы, не успели поговорить… Это просто какая-то катастрофа. Поэтому среди тех, кого мы записывали, особенно в первые годы, мы отбирали людей постарше. Но в любом случае при выборе информанта нельзя руководствоваться личной симпатией или антипатией. Был в моей пятнадцатилетней работе в «Мемориале» один случай, когда надо было терпеть рассказчицу, буквально сжав зубы. Я говорила себе: «Терпи, молчи и слушай, потому что подобного нигде больше не услышишь». Если говорить про командировки, мы выбираем город, где есть региональное отделение «Мемориала» или координатор Школьного конкурса, который нам поможет. Коллеги знают людей, их судьбы, советуют.
– Одна из важных составляющих видео-интервью – «картинка», видеоряд. Вы находите местного оператора или своего берете?
– Если в процессе подготовки мы можем найти местного профессионального оператора, который отвечает нашим требованиям, то, конечно, приглашаем его. Но бывает, что в маленьком городе операторов нет или есть только те, что свадьбы снимают, а нас такие не устраивают, и нам приходилось везти оператора из Москвы.
– За пятнадцать лет в «Мемориале» у вас было очень много собеседников, интервьюируемых. Кто-то вам особенно запомнился? Необязательно понравился. Может быть, та женщина, которую вы слушали, сжав зубы. Может быть, кто-то вас так «зацепил», что не идет у вас из головы…
– Когда я пришла сюда работать, а это было еще в конце 1990-х, то думала: «Приду к этому человеку в дом, возьму у него архив, запишу его воспоминания, и больше он тебя никогда не увидит». Но так не получилось, наши информанты становятся нам близкими и, главное, мы для них становимся близкими. Подчас нам доверяют то, что не рассказывают даже родным детям. А детям не говорят не потому, что с ними плохие отношения, хотя и такое бывает, а потому, что в советское время была сделана мощная прививка: «Никогда никому ничего не рассказывай и не спрашивай. Меньше знаешь – крепче спишь». Поэтому детям не всегда рассказывают про то, что родителям пришлось пережить, когда они были репрессированы.
– Ну, так далеко не всех семьях, к тому же что-то утаить невозможно.
– Не во всех, конечно, семьях, но очень во многих. Почему утаить невозможно? Абсолютно всё можно утаить, создать совершеннейший миф и абсолютно сконструированный мир.
– Вы часто сталкиваетесь с такими сконструированными мирами?
– Почти каждый день.
– Помню, вы показывали фрагменты видео с пожилой женщиной и сказали, что она – пример того, как человек создает вокруг себя миф. Она откуда-то из региона, преподает танец … Помните?
– Помню ее замечательно. Она из Ростова-на-Дону.
– Расскажите немного про неё. Как вы на неё вышли?
– Через Елену Губанову – нашего координатора Школьного конкурса в Ростовской области.
– Я имею в виду, почему выбрали именно её героиней интервью?
– Потому что проект у нас (ненавижу слово «проект», но не знаю, как иначе определить) называется «Последний свидетель», и мы записываем тех, кто расскажет нам о своей судьбе. А поскольку мы – «Мемориал», для нас первоочередной интерес представляют люди, которые были в лагере. А та женщина – бывшая лагерница. Она действительно сидела, но при этом почти всё в её рассказе – чётко продуманный миф. Последние лет сорок она продумывает варианты и ходы своей истории.
– Чтобы всё сходилось.
– Именно. Она убедила себя в этом мифе и уверена, что никто не поймает её на несоответствиях, никто не поймёт, что всё у нее шито белыми нитками.
– Когда вы шли к ней, вы предполагали, что вас ждёт?
– Нет. Для нас любой человек, который прошел лагерь, – интересен и важен. И интервью с этой женщиной – замечательно интересное.
– Можете немного про неё рассказать?
– Главная идея её мифа такая: она – потомок знатного дворянского рода, родилась во Франции, красавица и редкий талант. Она каким-то способом попадает в Шотландию, потом в Лондон, и на светском приеме, чуть ли не в Букингемском дворце, знакомится с красавцем-принцем или лордом, к тому же, он дипломат, и немедленно выходит за него замуж. А так как, по её версии, в юности она окончила балетное училище, то в Варшаве, куда он направлен в 1944-м, она танцует главные партии на сцене Театра оперы и балета. И не задумается ни на минуту, что и возраст её не соответствует такой версии, и лондонский дипломат не мог находиться во время войны в Варшаве. И ещё много чего не сходится.
– И не крупицы правды? Она не была репрессирована?
– В том-то и дело, что была. Она действительно была арестована в Варшаве в 1944-м. В нашей информационной базе есть о ней реальные сведения: была арестована, только никакая она не балерина, а работница на фабрике. Как она попала в Варшаву, мы можем только домысливать – то ли она остарбайтер, то ли уходила с немецкими войсками, что, вероятнее. Она называет себя Шереметевой, причем без мягкого знака (так аристократичнее), говорит, что её мама и папа расстреляны, что жили они в Москве, на Тверской, чуть ли не в Английском клубе. Но настоящая фамилия нашей героини – Чепинога, и она уроженка Днепропетровска. Это по официальным документам, хотя мы прекрасно понимаем, что в документах может быть всё, что угодно. Надо бы послать запрос на Украину, в Днепропетровск, поднять её дело и посмотреть, что там, но сейчас, в связи с политической ситуацией, думаю, там не до нас, подождём.
– Удивительная история…
– Могу рассказать и про другую историю, с которой столкнулась месяц назад, но я её ещё «не прожила», мы с этим человеком продолжаем работать. Его отец арестовывался раз пять и в конечном результате расстрелян.
– Это в Москве происходило?
– Нет, сначала в Одессе – в 1926 году он получил три года, был в Ярославле, в Суздале, в политизоляторах, потом ссылка, ещё одна и ещё… В интервале между ссылками в 1936-м он родил сына, в 1938-м его арестовывают, он попадает на Колыму и по очередному приговору его расстреливают.
– А чем он занимался?
– Он был скрипачом. И сионистом. Семья много раз пережила еврейские погромы, кто-то успел эмигрировать, кого-то посадили. Причем сионистом он был в прямом смысле – хотел переехать и жить в Сионе, то есть в сегодняшнем Израиле. К советской власти он не испытывал никакой симпатии или антипатии, просто не хотел иметь с ней ничего общего. Так вот: его сын, который родился в 1936-м, считал, что отец погиб во время войны – ему мама так рассказала. Мама запретила себе говорить сыну правду об его отце, и мальчик рос абсолютно правильным советским человеком. Ведь мальчику так лучше, спокойней… А в 1991-м он получил письмо из Израиля от дяди: «Приезжай, мне есть, что тебе рассказать». Это был брат отца, который успел эмигрировать.
– Они были знакомы?
– Нет, наш рассказик не знал о существовании дяди. Тот дал ему толстую пачку писем отца из всех этих политизоляторов, и для него в 1991-м мир перевернулся.
– И как после этого жить?
– После этого отец, естественно, стал главным человеком в жизни.
– Давайте поговорим про ещё одно, относительно новое направление деятельности общества «Мемориал» – выставки. Вы занимаетесь этим уже два года.
– Если говорить про выставки, то надо сказать об особенностях нашего музейного и архивного собрания и коллекций. Документы, которые есть у нас в архиве, вполне могут быть музейными экспонатами. Иными словами, музей и архив у нас – сообщающиеся сосуды. Иногда даже не знаешь, к чему экспонат отнести. Письмо из тюрьмы – это архивный документ? А если это письмо написано кровью на тряпочке, то музейный экспонат? На территории бывшего Советского Союза наше музейное собрание – самое большое из всех, связанных с бытом и творчеством ГУЛАГа. В старом здании в Малом Каретном у нас не было выставочных возможностей, и мы всегда сотрудничали с разными выставками, пользовались любой возможностью показать что-то из своих фондов. Но это были чужие выставочные концепции. А сделать выставку на своей территории и на своих материалах получилось только здесь. Но, к сожалению, настоящий музей сделать пока не получается. По многим причинам.
– А что это за причины?
– Музей надо делать хорошо, а у нас только небольшой зал. Мы не можем, как это было в 1950-е, положить под стекло бумажку, а под ней напечатанную на машинке этикеточку, которая загнётся, как старый сыр, и считать, что это музей.
 – Очень хорошим открытием выставочного пространства «Мемориала» стали «Папины письма».
– Очень хорошим открытием выставочного пространства «Мемориала» стали «Папины письма».
– «Папины письма» получились на редкость удачной выставкой. С ней мы попали в нужный нерв. Я не уверена, что выставка, которую мы готовим сейчас, будет такого же накала, хотя у нас чудесный дизайнер, и подготовка идёт полным ходом.
– Скажите, по мере подготовки «Папиных писем» далеко ли вы ушли от первоначальной идеи?
– Очень далеко. Изначально была идея сделать монографическую выставку, посвященную Алексею Феодосьевичу Вангенгейму (А.Ф. Вангенгейм (1881-1937) – организатор и руководитель Единой Гидрометеорологической службы СССР). Сохранились его лагерные письма дочери, в которых много рисунков. А потом нам захотелось представить лагерные письма и рисунки других пап, не только Вангенгейма. На выставку приходили совершенно разные люди. Одного посетителя запомнила. Я ему всё показала, рассказала и говорю: «Вы пока походите, посмотрите, а потом я к вам вернусь», а он: «Нет-нет, что вы! После вашей выставки я должен немедленно позвонить папе!»
– Это же самый лучший комплимент организаторам выставки. Сколько она в итоге длилась? И какова её дальнейшая судьба?
– Месяцев пять, а теперь она станет передвижной и будет демонстрироваться в пяти регионах – в Томске, Костроме, Воронеже, Красноярске, Перми.
– То есть, поедёт по мемориальским регионам?
– Да, она задумана с включением региональных материалов. Мы делаем основные базовые экспонаты, модули, а встречающая сторона должна дополнить их региональной составляющей. Параллельно мы готовим книгу, посвящённую «Папиным письмам». Материал мы расширили, дополнили, и в книге будет шестнадцать героев, шестнадцать пап. Папы все исключительно талантливые, замечательные, один другого лучше, есть просто глыбы.
– Расскажите про следующую выставку.
 |
 |
– Названия у нее пока нет. Новая выставка про лагерную почту. О всевозможных способах и ухищрениях, чтобы передать на волю весточку. Письма можно было вышить, сделать надпись на ткани, на каком-то обрывочке, нацарапать на ложке, спрятать в пуговицы, написать на папиросной коробке, которую выбросить из вагона во время этапирования в лагерь…
– А сколько таких посланий не дошло до адресатов, потерялось в пути…
– Ну конечно, при наших-то снегах и ветрах!.. Когда люди едут в закрытом вагоне, кидая наружу записку, они выкидывают её в никуда. Они же не знают, есть ли там хотя бы обходчик, который, может быть, это послание подберет и отнесет куда надо. Самая большая ценность в лагере – это письма из дому. Те, кому удавалось выйти из лагеря, выходили с большими деревянными чемоданами, в которых, кроме писем, ничего и не было.
– К вам приходят люди, которые хотят найти информацию о своих родственниках и, наоборот, хотят с вами ею поделиться.
– Да, приходят и те, и другие. Бывают случаи, когда приходит человек и говорит, что ничего не знает про бабушку-дедушку.
– А почему приходят к вам?
– Потому что, в «Мемориале» можно узнать. «Мама умерла – спросить не у кого». И были у нас случаи, что мы сажаем его в читальный зал, даём наушники, и мама или папа своим голосом рассказывает историю семьи. И дальше непонятно – то ли «скорую» вызывать, то ли песни на радостях петь…
– У вас три приёмных дня в неделю?
– Четыре, а может быть и пять. Если человек пришел, я же не могу ему сказать: «Извините, у меня неприемный день». Он же пришёл со своей бедой и вопросом. Последнее время количество людей сильно увеличилось.
– Последнее время – это года два?
– Да.
– А возраст у них какой?
– Абсолютно разный. И ещё изменился сам вид документов. Нам стали много присылать копий из архивно-следственных дел, которые получают теперь внуки-правнуки.
– То есть делятся с вами.
– Да, и понятно почему: вначале они ведь пришли к нам (или позвонили, или написали) и спросили «Где искать?», а мы им объяснили. Это связано, в том числе, с огромностью Советского Союза и абсолютной закрытостью кагэбэшных структур. «А что, туда можно написать?» – спрашивают нас. «Можно туда прямо пойти?» У большинства людей нет «архивного» знания. Вот, например, вопрос: «Я не знаю, где мой дед (или отец) похоронен. Я ходил к директору кладбища, спросил, не здесь ли он похоронен, тот сказал нет». «А вы на какое кладбище заходили?» «Я рядом с Кузьминским живу, туда и зашёл». Почему туда? «А я не знаю, куда идти». А если, к примеру, человек жил в Москве, был командирован на работу, предположим, в Магнитогорск, потом отбывал лагерь в Казахстане, а потом его перекинули в Магадан. Куда его потомкам писать? Они не понимают, им нужен алгоритм действия. Поэтому сначала они приходят к нам, а мы им смотрим, куда писать. А часто пишем вместе. Потом они приходят к нам: «Видите, что я нашел». А другие приходят: «Вот у вас база данных есть, а моего отца (деда, прадеда) в ней нет, давайте внесем его».
Бывают редкие удачи, награда для исследователя и для архивиста, когда есть документы с обеих сторон – архивно-следственное дело и что-то человеческое (письма, записки или воспоминания). Часто из архивно-следственных дел ничего нельзя понять про человека, кроме того, что он жил, был арестован и расстрелян и что его обвиняли в чем-нибудь таком, что в кошмарном сне не приснится. Ну, вот для примера яркий случай: принесли нам документы человека, которого обвинили в том, что в 1930-е годы он купил квартиру на Якиманке (а это правительственная трасса) с целью оторвать от стены батарею центрального отопления и сбросить её на Сталина. А ещё поди попробуй, оторви батарею…
– А этот человек какой-то высокий пост занимал?
– Никакой высокий пост он не занимал. На первом допросе, ещё человеческом, он пытался апеллировать к логике: «Как я купил квартиру? У нас не продаются квартиры. Я, конечно, живу на Якиманке, но у меня окна выходят во двор, и вообще у меня нет батареи, у нас печное отопление». Но в конечном итоге он во всём признался, и его расстреляли. Что мы из него можем понять про этого человека? Правда, можем что-то понять про методы допроса.
А вчера к нам пришел человек, сидел вот на этом стуле: «У вас, говорят, есть воспоминания моего отца». Выяснилось: действительно, есть – три больших тома.
– Его отец был известным человеком?
– Абсолютно неизвестным. Какое-то время назад эти воспоминания передала нам сводная сестра вчерашнего посетителя. Он пришел к нам со словами: «Ничего не знаю о происхождении семьи. Может быть, отец пишет об этом». А прочитав часть воспоминаний, говорит: «Я против публикации этих мемуаров».
– А вы думали их публиковать?
– Нет, не думали, но они лежат у нас в архиве, архив открытый, любой их может читать, а если мы захотим, то их опубликуем. Дело в том, что эти мемуары чрезвычайно насыщены подробностями, они очень ценные. Автор писал их практически сразу после выхода из лагеря, всё ещё помнил, с огромным количеством имен, деталей, и именно это вызвало возражение сына. «А почему вы против?» – спрашиваю.- «Но он же был репрессирован».- «И что?» – «Ну, он же здесь прямо пишет, что был репрессирован». – «И что?» – «Я боюсь».- «Нет, дорогой, – говорю, – у нас есть разрешение вашей сестры, которая нам эти воспоминания передала, и вы ничего не можете запретить». Но вот информация к размышлению: восьмидесятилетний человек всю жизнь прожил с этим страхом, и даже сейчас, читая, продолжает бояться.
– Он первый раз пришел к вам?
– Да. Думаю, придет ещё – дальше читать. Он всего боится. На мой невинный вопрос, остались ли у него отцовские фотографии, он просто перепугался: «А вам зачем?»
– Многие ли из потомков, которые к вам приходят, до сих пор испытывают страх?
– Многие.
– И как вы с ними работаете?
– Как можем, так и работаем. Вы не первая, кто этот вопрос задает. Психологи нас спрашивают: «А как вы разгружаетесь после глубинного многочасового чрезвычайно тяжелого интервью?» Когда меня первый раз об этом спросили, я только развела руками. Потому что правильнее спросить: не как я разгружаюсь, а как я разгружаю того человека? Вот и сидим, вместе чай пьем, разговариваем про погоду, телесериалы, соседей… На «небольные» темы.
– Чтобы ввести его обратно…
– Да, в нормальную ситуацию. Я не знаю, правильно ли делаю, может быть, и нет. Психологи сказали, что нет, что так у меня будет «выгорание», но я таких умных психологических терминов не знаю. Я понимаю, что приехала к пожилому человеку, взбудоражила его так, что он потом неделю не будет спать, поэтому после интервью я должна его как-то «отогреть».
– С большинством своих собеседников вы ведь и потом поддерживаете отношения?
– Конечно, среди этих людей много тех, кто становится моими личными друзьями. Я – богатая, счастливая. Появилось много друзей сейчас, а ведь обычно наши друзья из юности, из детства. Оказывается, есть много людей, с которыми мы живём на одной волне. Для общения совсем не имеет значения многодесятилетняя разница в возрасте. Но не счесть и невосполнимых потерь. Уходят совершенно замечательные люди, а мы должны жить без них. Правда, некоторые «передают» нам по наследству детей и внуков.
– Цитата из вашего интервью: «В прошлом году – я считаю, это самый большой успех был – я нашла женщине фотографию её расстрелянного отца, которого она искала всю жизнь. Это случайность, но такие случайности у нас каждый день».
– Причём нашла у себя дома на шкафу. Эта фотография из моего домашнего архива, и я её этой женщине подарила. Она позвонила в «Мемориал», мы разговорились, потом довольно долго переписывались, думали, куда ещё послать запрос, где поискать. Написали в институт, где учился её отец, и в архив министерства, в который перешёл архив наркомата, которому подчинялся завод, где работал её отец, ну и в ФСБ, конечно, и ещё куда-то, и ещё куда-то. И ей какие-то умные советчики порекомендовали обратиться почему-то в Госфильмофонд. Там много разных фотографий.
– Почему в Госфильмофонд? Ее отец имел отношение к кино?
 – Он был директором коксохимического завода в Днепродзержинске. А через какое-то время я стала делать дома ремонт и сняла со шкафа большую коллективную фотографию. Она там лежала, потому что ни в какую полку не лезла ни лёжа, ни стоя. Та фотография была у меня дома, потому что она из архива моей собственной родной тетки. Когда она была очень старенькая, я забрала её к себе со всеми книжками и бумажками. Её муж работал в коксохимии, как и мой отец, поэтому эта область мне не чужая. И я смотрю: фотография коллективная, съезд каких-то коксохимиков, город и год подходит. И я ей пишу: «Вы отца узнаете в лицо?» «О да, я его замечательно помню, когда его арестовали, мне было три года». Тогда я её аккуратненько спрашиваю: «А может быть есть кто-то постарше, кто помнит вашего отца?» «Да, сосед по дому, правда, сейчас он живет в Америке, но мы с ним переписываемся. Он меня старше лет на двенадцать, и он прекрасно помнит моего отца». Я ей предложила фотографию посмотреть и знакомому показать. И она мне на следующий день пишет: «Ирочка, я ему послала снимок. На нём мой отец третий слева, а его – третий справа». Ради этого стоит жить?..
– Он был директором коксохимического завода в Днепродзержинске. А через какое-то время я стала делать дома ремонт и сняла со шкафа большую коллективную фотографию. Она там лежала, потому что ни в какую полку не лезла ни лёжа, ни стоя. Та фотография была у меня дома, потому что она из архива моей собственной родной тетки. Когда она была очень старенькая, я забрала её к себе со всеми книжками и бумажками. Её муж работал в коксохимии, как и мой отец, поэтому эта область мне не чужая. И я смотрю: фотография коллективная, съезд каких-то коксохимиков, город и год подходит. И я ей пишу: «Вы отца узнаете в лицо?» «О да, я его замечательно помню, когда его арестовали, мне было три года». Тогда я её аккуратненько спрашиваю: «А может быть есть кто-то постарше, кто помнит вашего отца?» «Да, сосед по дому, правда, сейчас он живет в Америке, но мы с ним переписываемся. Он меня старше лет на двенадцать, и он прекрасно помнит моего отца». Я ей предложила фотографию посмотреть и знакомому показать. И она мне на следующий день пишет: «Ирочка, я ему послала снимок. На нём мой отец третий слева, а его – третий справа». Ради этого стоит жить?..
Это замечательная история, но не единственная, мы находили друг другу братьев, одноклассников, массу кого… А вот ещё одна совсем недавняя история из этой же серии. Есть такой очаровательный человек – Павел Фалько. Он – АЛЖИРский сын (прим. А.Л.Ж. И. Р – Акмолинский лагерь жён изменников Родины). Фамилия у него не самая распространённая, живет всю жизнь в Мытищах. Какое-то время назад я была у женщины, которая мне рассказывала свою историю: мать арестована, отец арестован, все расстреляны, их с бабушкой из московской квартиры выкинули, и они мыкаются, все их гонят… В итоге приткнулись они где-то в Мытищах, на заднем дворике у каких-то немцев, которые их пожалели. И эта женщина говорит: «Никогда не забуду замечательную учительницу в школе. Она мне ни одного вопроса про родителей не задала, как-то пригрела, приголубила». Я спрашиваю: «Помните, как ее зовут?» «Конечно! Клавдия Фёдоровна Фалько». Я тут же звоню «своему» Павлу: «Клавдия Федоровна Фалько – это кто?» «Это моя тетя».
– В такие моменты у вас, наверное, возникает ощущение чуда?
– Да, это моменты полного чуда. Другое дело, что про эти истории долго рассказывать, а в пересказе сказочность пропадает.
– В архиве московского «Мемориала» хранятся сведения о почти семидесяти тысячах репрессированных, а ещё есть база данных с короткими справками – в ней около трёх миллионов человек. А есть ли более точные цифры?
– Это – к Арсению Борисовичу (прим. А. Б. Рогинский – Председатель правления общества «Мемориал»), он давно хочет опубликовать статистику. В нашем архиве около семидесяти тысяч личных дел, я бы не назвала его только московским. Там судьбы людей со всего Советского Союза.
– Из этих семидесяти тысяч с каким примерно количеством дел вы работали?
 – Что значит «работала»? Читала? Или сколько людей знаю лично? Конечно, я работала с небольшой частью архива. Нам присылали по почте, приносили в начале 1990-х, когда ещё многие лагерники были живы. И дела ведь разные. Бывает, что есть только краткие анкетные сведения, анкета. А есть дела, как, например, фонд Мищенко. Три больших чемодана, каждый по семнадцать килограмм – это полный архив большой семьи, клана, в котором есть документы даже XVIII века – какие-нибудь выписи из метрических книг, а ещё в нем грандиозная переписка из лагеря в Москву и обратно.
– Что значит «работала»? Читала? Или сколько людей знаю лично? Конечно, я работала с небольшой частью архива. Нам присылали по почте, приносили в начале 1990-х, когда ещё многие лагерники были живы. И дела ведь разные. Бывает, что есть только краткие анкетные сведения, анкета. А есть дела, как, например, фонд Мищенко. Три больших чемодана, каждый по семнадцать килограмм – это полный архив большой семьи, клана, в котором есть документы даже XVIII века – какие-нибудь выписи из метрических книг, а ещё в нем грандиозная переписка из лагеря в Москву и обратно.
– Помимо того, что ваша работа очень нужная, она и чрезвычайно интересная.
– Думаю, она штучная, не знаю, где это умение и знание ещё можно применить. У нас в «Мемориале» все, наверное, «штучные». Но, возможно, нас, как космонавтов, много и не нужно. И ещё могу сказать, что у нас работают люди неслучайные. Тут как получается? Или пришёл и ушел довольно быстро, или пришёл и остался навсегда. «Мемориал» потом не особо-то отпускает. Люди, которые здесь работают, очень меняются. Я это чувствую по себе и вижу по своим коллегам – принципиальные нравственные изменения. Тот человек, которым я была пятнадцать лет назад, и тот, кто я сейчас, – разные люди.
– Как бы вы охарактеризовали эти изменения?
– Начинаешь понимать, что важно, а что нет. И ещё понимаешь, что в жизни может быть абсолютно все, чего нельзя вообразить даже с богатейшей фантазией – необыкновенные встречи, пересечения, сплетения судеб…
– Про «Доктора Живаго» Пастернака критики говорили, что в романе слишком много совпадений, что в жизни так не бывает.
– Именно так оно и бывает.