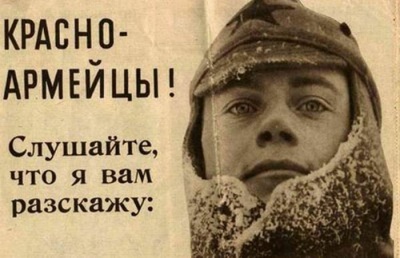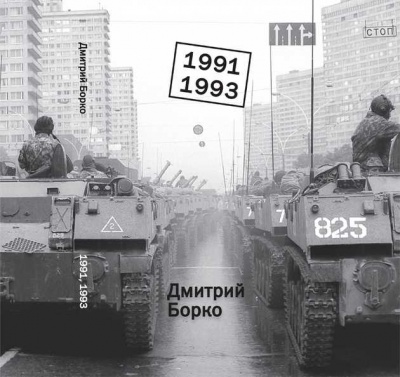Игорь Пальмин: «Главное в фотографии для меня – это память»
В Центре фотографии имени братьев Люмьер проходит выставка «В сторону света» – 25 фотографий архитектуры, сделанные в разные годы Игорем Пальминым.
Прежде всего Пальмин известен своими портретами представителей «другого искусства» и архитектурной фотографией – классицизм, модерн, конструктивизм… «Естественно, я помню не каждый свой кадр, – говорит он, – но, пожалуй, большинство съёмок. Это касается и архитектуры, и художников, и пейзажа»
С Игорем ПАЛЬМИНЫМ беседовала Елена КАЛАШНИКОВА
 |
 |
 |
| Мне как-то Володя Янкилевский сказал: «У тебя добрые фотографии». На что я ответил: «Это не фотографии добрые, это вы на меня по-доброму смотрите» |
– Вы как-то определяете жанр, в котором работаете, или просто считаете себя фотографом, а название «архитектурный фотограф» не приемлете?
– Я не приемлю ярлыки «фоторепортёр», «фотограф-художник»… Это от недоверия к профессии. Во всем мире есть «фотограф» – и всё, а у нас здесь фотография считалась низким жанром, поэтому придумывали разные определения. Название «архитектурный фотограф» принимаю, хотя это и не единственное, чем я занимался, но профессией стала именно архитектурная фотография. Мои портреты художников – это непрофессиональная фотография, я определил этот жанр как «фотография на память». Они из того же разряда, что и работы моего отца, он был фотолюбителем. Снимал для дома, для семьи: аппарат «Фотокор», дюжина кассет, дача, ребенок…
– А чем он занимался?
– Он был актёром, как и мать. С отцом связана смешная история. Когда я сел печатать первую свою пленку, снятую только что купленным «ФЭДом», подошёл отец. Он очень ревниво относился к моему фотографированию. Постоял минут десять, посмотрел, как я один кадр печатаю, второй, и сказал: «Нет, тридцать кадров – неинтересно. То ли дело один кадр – один отпечаток». Смысл этого я понял, когда стал заниматься профессиональной фотографией, начал снимать на штучную плоскую пленку архитектуру. И сам процесс полюбил – ставить треногу, камеру, наводить на резкость, ждать свет… После этого я очень мало снимал на узкую пленку, хотя появилась хорошая аппаратура и оптика.
– Есть ли снимок, с которого вы отсчитываете начало своей фотобиографии?
– Сложный вопрос. Что называть первым снимком?.. Отсчёт я начинаю с фотографии, которую не хотел бы показывать. А вот одну из ранних покажу, в ней есть что-то моё. Это 1953 год, Воронеж, и отпечаток тогда же сделан.
Нас было трое, кто увлекался фотографией. Мы учились на геологическом в университете, много снимали. И вот во время одной из поездок на пейзажи натолкнулись на этого пацанёнка. Жаль, не сохранились негативы, на которых мои приятели обступили его и снимают.
– А кто этот мальчик с портфелем – герой вашего снимка?
– Совершенно ясно, что он пропускает урок. На местном жаргоне это называлось «идти на скéту». От слова «скитаться», наверное. Тех, кто шлялся вместо уроков, называли «скетушник». Помню, он держался очень спокойно, непринуждённо. В этом снимке есть что-то моё, что потом будет и в фотографиях художников, – заинтересованность друг в друге фотографа и модели.
– А можете рассказать об этом свойстве своих фотографий поподробнее?
– Главное, на чем держатся мои портреты художников, помимо того, что у большинства из них хорошие лица, – на взаимном интересе. Этого нет в глянцевой фотографии, во всяких «Семи днях». В тех снимках нет контакта, они пусты.
Мне как-то Володя Янкилевский сказал: «У тебя добрые фотографии». На что я ответил: «Это не фотографии добрые, это вы на меня по-доброму смотрите». И это действительно так. Я это состояние ловил, потому что все эти фотографии довольно однообразные, там нет никаких изысков. Как правило, они сделаны, когда мы тет-а-тет. Вот я сижу, почему именно в этот момент я щёлкал, не знаю, но я все время был с камерой. А потом вдруг мне это надоедало, и я переставал снимать. Как-то с Димой Плавинским была такая штука. Для них я уже свой в доску, они знают мои фотографии, которые я делаю постоянно, неизвестно для чего. И он мне говорит: «Ты всё время нас снимаешь, да, мы вот такие, похожие. А где же ты?». Я задумался: действительно, где же я?.. И буквально в следующий раз надел широкоугольник и стал ракурсы экстремальные придумывать. Есть несколько таких кадров с Отари Кандауровым. А потом, совершенно незаметно для себя, поставил нормальный объектив и продолжал снимать, остался тем, кем был.
 |
 |
 |
| У меня есть свойство – нескромно, наверное, так говорить – которое доставляет мне удовольствие: я люблю анализировать, но не в момент съёмки, а потом – себя и кадр, распутывать связанные с ним истории и ощущения. Это и входит в моё понимание памяти как возвращения в ту обстановку |
– Изменился ли после знакомства с художниками у вас взгляд на мир, отношение к фотографии?
– У меня сформулировалось отношение к фотографии, которое, в общем, противоречит взглядам большинства фотографов, и меня за это клеймили. Я стал повсюду говорить, что фотография не искусство, и это в первую очередь относится к моим работам. Я по-прежнему так считаю, но сейчас говорю об этом осторожнее, не так категорично.
Главное в фотографии для меня – это память. Память не в смысле того, что вот я снял мальчика в Воронеже и рассказал вам об этом. Но уже в этом мальчике существуют мои друзья, один из них Слава Жигулин, брат поэта Жигулина, за этим возникает наша школа и события 1949-го, вся эта система… (в 1949 году в Воронеже была арестована большая группа выпускников школ, и среди них поэт Анатолий Жигулин. – прим. ЕК). Естественно, я помню не каждый свой кадр, но, пожалуй, большинство съёмок. Это касается и архитектуры, и художников, и пейзажа. Помню ситуацию и состояние в тот момент природы, мастерских. Когда говорю о мастерской Плавинского, у меня перед глазами одна мастерская, если говорю о той же мастерской, когда там был Немухин, она – другая. Когда говорю, что снимаю Немухина, в этот момент я вижу и Немухина, которого снимаю, и себя, и всю эту мизансцену, атмосферу, воздух этот помню. Из этого складывается память. То же самое у меня и с архитектурой. Помню, как увидел здание, как к нему подходил, как нашел кадр.
Модерн стал для меня открытием, как Америка – для Колумба. Я взялся снимать модерн, и это было абсолютно авантюрным и непрофессиональным решением. Я не имел на это права с той аппаратурой, которая тогда у меня была.
– Много ли вы знали об архитектуре модерна и снимали её до того, как получили заказ проиллюстрировать книгу о русском модерне?
– В этот момент я знал только, что модерн – это всякие головки с завитушками на фасадах и шехтелевская лестница в особняке Рябушинских, которую я снимал для статьи Евгении Кириченко о Шехтеле. Я снял этот кадр лестницы с двух заходов. До сих пор люблю и ценю его, и всюду показываю.
– А чем тот снимок вам так нравится?
– О пространстве модерна я прочел уже позднее у Кириченко, и тогда понял, что снимал именно то, о чем она писала. Ось моего кадра идет из
пустоты в пустоту, от объектива, и уходит в световой фонарь. Получается, я снимал пустоту, ограниченную архитектурой, как рамой.
У меня есть свойство – нескромно, наверное, так говорить – которое
доставляет мне удовольствие: я люблю анализировать, но не в момент съемки, а потом – себя и кадр, распутывать связанные с ним истории и ощущения. Это и входит в моё понимание памяти как возвращения в ту обстановку. Здесь тоже я ловлю какие-то сигналы, но это возрастное – ловить сигналы из прошлого.
У меня есть кадр, который стал кадром через сорок пять лет. Во время войны мы бежали из Воронежа. Сначала эвакуировались поездом в Камышин на Волге, а оттуда поплыли на пароходе. И вот отплываем из Куйбышева, погода роскошная и мы, мальчишки, лежим на носу, «на баке». Вдруг кто-то кричит: «Смотрите, смотрите! Слоны!». На берегу стоит белый дворец, как нам казалось, и перед ним два огромных слона. Через сорок пять лет я поставил напротив них треногу с камерой. Я ждал свет часа два. Сидел и смотрел то на Волгу, то на слонов и видел одновременно плывущий мимо пароход и на нём себя тогдашнего и сегодняшних людей, спускающихся к реке. Такая вот память, причём объёмная. Как параллельный монтаж в кино.
 |
 |

|
| Я вообще люблю смотреть в фас – на стену, человека… В профиль, с жестом человек от тебя уходит, не раскрывается, обманывает. А в фасе есть особое напряжение, ему некуда скрыться и он волей-неволей должен быть честным. И тут возникает мимолётное такое ощущение, ожидание, чтобы это скорее кончилось. Как и за счёт чего – объяснить не могу, но вижу и знаю об этом |
– Судя по вашим портретам и архитектурной съёмке, вы любите снимать прямо «в фас»?
– Да, общение с художниками повлияло на меня и в этом. Меня интересует плоскость – не для того, чтобы лоб расшибить, а живая плоскость. Это я, например, вижу в натюрмортах Володи Немухина, его ломберных столах и совершенно плоских вещах. И в еще более ранних пасьянсах, где только чуть-чуть шевелится карта – и картина живет.
Я вообще люблю смотреть в фас – на стену, человека. Потом уже я прочёл обоснование портрета анфас у Мунка. В профиль, с жестом человек от тебя уходит, не раскрывается, обманывает. А в фасе есть особое напряжение, ему некуда скрыться и он волей-неволей должен быть честным. И тут возникает мимолётное такое ощущение, ожидание, чтобы это скорее кончилось. Как и за счёт чего – объяснить не могу, но вижу и знаю об этом. Был у меня заказ, в итоге нереализованный, снять буклет для симфонического оркестра под управлением Китаенко. Несколько дней я ходил и с удовольствием снимал и однажды попал на совместную репетицию с Женей Кисиным. Это был чуть ли не первый его концерт. После репетиции к нему подошла педагог и стала что-то говорить. Он сидел за роялем, все уже ушли и я, не спрашивая разрешения, встал с другой стороны – на фасовый кадр – и начал его снимать. Я видел, что не имею на это права, лезу к нему без спроса, но он не мог меня выгнать. В этих кадрах есть момент… страдания громко сказано, видно, что против него мучитель.
– Можно ли сказать, что архитектура для вас интереснее людей, или это просто разные жанры?
– Нет, это разные жанры. После того, как прекратились съемки в мастерских, я мало делал портретов. Люди, очевидно, не были мне интересны. Можно сказать, мне интересны свои люди. У меня четкое деление на свой-чужой, необязательно, что свой – хороший, а чужой – плохой, свой тоже может быть плохим. Это не характеристика, а разные дистанции.
– А чужой у вас может хорошо получиться или нет?
– Может. Я выставляю свои работы в фейсбуке. Составляю альбомы «Mеmory» о людях, которых знал, любил, встречи с которыми ценны для меня, «чужих» там нет.
Елена Калашникова