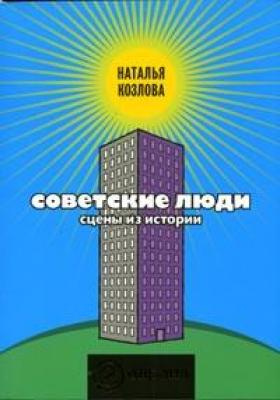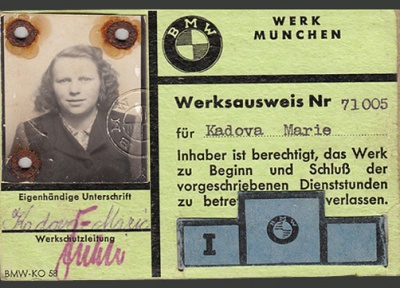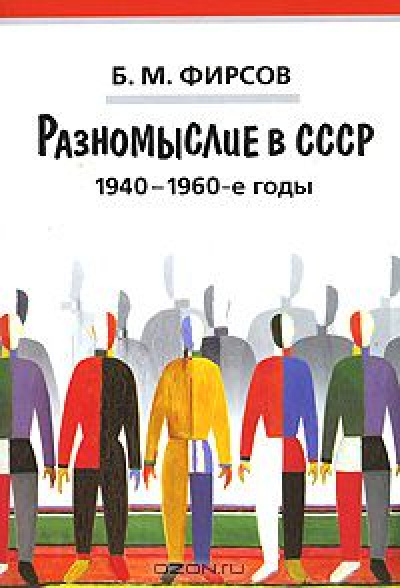Н. Козлова. Советские люди. Сцены из истории
Исследование известного российского социолога Натальи Козловой [1] посвящено «человеческим документам» советской эпохи: дневникам, мемуарам, личным архивам, переписке обычных советских граждан. «Обычных» – значит «невыдающихся», неинтересных с точки зрения государства или Большой истории. Однако комментарии автора делают эти записи бесценным историческим источником – многоголосным свидетельством «изобретения» советского общества. [2]
Способ работы Натальи Козловой с «человеческими документами» уникален. Она задействует собственный опыт советской жизни, совмещает методологически выверенный анализ и «вчувствование» в источники. Это, наверное, единственный способ зафиксировать множащиеся реальности и не «потерять» при этом теоретической рамки. Результат таков, что кажется возможным описывать авторский подход оксюморонами: «искренний анализ», «честная методология», «человечный исследователь».
Главными героями книги стали бывшие крестьяне, которые в 20-30-е годы перебрались в город и были вынуждены пережить «социальное превращение». Самые удачливые из них пополнили ряды партийных работников и номенклатуры – по судьбам этих людей Козлова реконструирует историю формирования советского среднего класса. [3] Дневники и мемуары показывают, что социальная успешность советского человека, его попадание в средний класс и выше, напрямую зависела от степени овладения языком власти. «Тексты вождей – святыня, но эта святыня используется ради исполнения желаний, сопряжённых с удовольствием». Для тех, кто хотел расстаться с прежней, крестьянской жизнью, овладение письмом и чтением, а через них – советской риторикой становилось жизненно важной задачей. По словам Козловой, «язык плаката» был связан с повседневностью самыми тесными узами. Это значит, что «тоталитарный язык» был не только способом «формовки» советского сознания, но и значимым социальным ресурсом.
Один из главных выводов книги заключается в том, что тоталитарная модель советского общества, согласно которой власть формирует массу «сверху вниз», слишком абстрактна. Она не в состоянии объяснить ни советского прошлого, ни постсоветского настоящего. Ключевые понятия альтернативной модели, которую предлагает автор, – «непреднамеренное социальное изобретение» и «социальная игра». Работу политической системы люди всегда стремятся обратить в свою пользу («слабый не может победить сильного, но он его использует»). В этом смысле все участники социального процесса вовлечены в игровое поле и участвуют в «социальном изобретении». Так советское общество оказывается продуктом общей игры, осуществляемой каждым её членом – даже теми, кто претендовал только на выживание. Например, в главе «Те, кто за пределами игры?» анализируется рукопись Е.Г. Киселевой, малограмотной 64-летней женщины, всю свою жизнь прожившей в шахтерском поселке. Этот редкий документ дает уникальную возможность увидеть, как «изобреталось» советское общество на самых нижних ярусах. [4]
В заключении Наталья Козлова написала, что мы знаем о советском обществе непростительно мало, а это знание – единственная возможность понять то, что происходит здесь и сейчас. «Сцены из истории» были написаны в 90-е годы, но этот вывод оказался пророческим.
[1] О личности и научных интересах Натальи Никитичны Козловой (1946-2002) см.: А.В. Захаров. «Н. Н. Козлова: тема жизни (Социальная антропология и творческий путь исследователя)».
[2] См. ссылки на публикации Н. Козловой по проблемам анализа «человеческих документов».
[3] Для полноты социальной картины две главы посвящены «социальному дну» («Те, кто за пределами игры?») и советской интеллигенции и богеме («Реконверсия»). Отдельная глава комментирует семейную переписку периода «застоя». Интернет-публикации с анализом этих источников:
Н. Козлова. «Моя жизнь с Алёшей Паустовским»: социологическое переписывание.
Н. Козлова. Сцены из частной жизни периода «застоя». Семейная переписка.
[4] Полная публикация дневника Е.Г. Киселёвой с лингвосоциологическими комментариями была осуществлена Н.Н. Козловой в соавторстве И.И. Сандомирской в кн. «Я так хочу назвать кино…» Наивное письмо. Опыт лингвосоциологического чтения. – М., 1996.