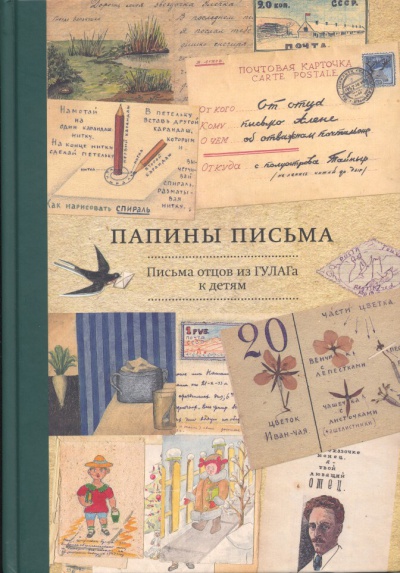Память ГУЛАГа
Опыт исследования мемуаристики и устных свидетельств бывших узников
Воспоминаний бывших узников сталинских лагерей были фактически долгое время единственным источником наших знаний о репрессиях‚ о том, что происходило в тюрьмах и лагерях. Никто не мог надеяться, что гулаговские архивы когда-либо откроются, и главное, что они вообще сохранились. Неслучайно в предисловии к подготовленному историками-диссидентами в 1975 самиздатовском сборнике “Память” говорилось: “Говорят, архивы ВЧК-ГПУ-НКВД — учреждений, державших руку на пульсе советской истории, — вылетели дымом в лубянские трубы в октябре 1941 г.; архивы МГБ-МВД, как считают некоторые, тоже горели — в 1953 году… Однако главные наши исторические тайны — особого рода. В эти тайны посвящены миллионы людей. Можно тайно подготовить 1937-ой год, но осуществить его тайно представляется затруднительным. Миллионы свидетелей, и многие из них еще живы. Ни один историк никогда не располагал таким обильным материалом.” [1]
Лагерная мемуаристика создавалась в течение нескольких десятилетий в менявшихся политических и общественных условиях, и это, вне всякого сомнения, наложило отпечаток на то, что, как и под каким углом зрения вспомнилось. Как очень верно замечает в своей книге (I sommersi e i salvati) Primo Levi, человеческая память не высечена из камня, она не только ослабевает с годами — часто воспоминания изменяются или даже наоборот становятся обширнее, поскольку впитывают в себя чужие элементы. Примо Леви называет и механизмы, которые при определенных обстоятельствах искажающе воздействуют на память: это психологические травмы, влияние других «конкурирующих» воспоминаний, репрессии, вытеснения» [2]. Ведь сам процесс воспоминания — это отнюдь не фотографическое воспроизведение прошлого.
Поэтому очень важна датировка мемуаров — важна, как воспоминание и о том времени, когда эти воспоминания писались. Все это, несомненно, надо учитывать при анализе мемуаристики ГУЛАГа.
Сложность задачи состоит однако в том, что сегодня бывает порой достаточно трудно определить даты написания тех или иных мемуарных текстов. И объясняется это целым рядом причин.
Во-первых, мемуары, особенно если они не предназначались автором в какое-либо обозримое время для печати, писались, как правило, в течение нескольких, иногда даже многих лет. Те воспоминания, которые теперь опубликованы или в неопубликованной форме хранятся в государственных архивах или, например, в архиве общества” Мемориал”, отнюдь не всегда датированы. Очень часто на рукописи стоят, например, просто даты: 1968-1988 (что, кстати, вполне может соответствовать действительности, жаль только, что автор, как правило, не отмечает, когда были написаны отдельные куски.)
Дата, особенно если мемуары были начаты еще до смерти Сталина, часто не ставилась по цензурным соображением. И если в конце сороковых — начале пятидесятых годов у ряда лиц (это, как правило, были известные представители интеллигенции, осколки уцелевшей культурной российской элиты) и возникла потребность все же сесть за воспоминания, они избегали описывать тюрьмы или лагеря. Их тюремный или лагерный опыт был лишь частью долгой жизни. Как правило, это были люди, познакомившиеся с советской пенитенциарной системой еще в двадцатые годы, и если им потом удавалось все же вырваться из шестеренок репрессивной машины и даже сделать карьеру в области науки или культуры, они скрывали эти страницы своего прошлого.
Конечно, это объяснялось страхом, который владел людьми, чудом уцелевшими в массовых репрессиях 1937-38 годов. Ведь делать такого рода автобиографические записи было чрезвычайно опасно, аресты всегда сопровождались обысками и изъятием бумаг. Не только воспоминания и дневники, обычные записные или телефонные книжки или даже простая запись в календаре могли превратиться в тяжелую улику во время следствия (об этом есть много свидетельств).
Кроме того, сохранить какие бы то ни было записи в тайне от чужих глаз, в советском барачно-коммунальном быте было чрезвычайно трудно. Большинство советских городских жителей не имело не только чердаков и подвалов, но очень часто даже собственного угла. Особенно те, кто освободился из тюрьмы или из лагеря и постоянно ожидал нового ареста. Какое-либо жилье, комнату или даже квартиру бывшие узники ГУЛАГа начали получать уже в хрущевскую эпоху. Выходит, что период, когда можно было сесть за воспоминания без особенного страха и в относительно нормальных бытовых условиях был достаточно коротким (в брежневскую эпоху страх, что такого рода воспоминания могут причинить вред их автору или кому-либо из его близких, снова усилился). До перестройки, которая наступила чуть ли не через сорок лет, дожили очень немногие.
Именно этим и объясняется тот факт, что по сравнению с объемом репрессий и даже процентом выживших, количество воспоминаний о ГУЛАГе сравнительно невелико. Если суммировать и то, что опубликовано, и то, что хранится в государственных архивах и в архиве общества “Мемориал” — получится, вероятно, не более 2-3 тысяч текстов.
Тем не менее, хоть и достаточно схематично, можно обозначить периодизацию лагерной мемуаристики в сталинскую и послесталинскую эпоху.
В период 20-40-х годов появляется лишь очень небольшое количество письменных свидетельств, в которых очевидцы рассказывают о советских тюрьмах и лагерях. Публикуются они, если вообще публикуются, только на Западе. Главным образом, это истории тех, кому после недолгого знакомства с советской пенитенциарной системой удалось уехать из СССР.[3]
После пакта Гитлера-Сталина, за которым последовала передача в 39-40-ом годах органами НКВД прямо в руки гестапо немецких эмигрантов, арестованных в СССР, число лиц с гулаговским прошлым за границей выросло. (Уже в послевоенное время появляются книги людей с такой судьбой, самые известные из которых — воспоминания немецкой коммунистки Маргарете Бубер-Нейман и ученого-физика Александра Вейсберг-Цибульского [4]).
Во время Второй мировой войны на Западе оказывается много прошедших через советские тюрьмы и лагеря и среди военнопленных, и среди тех, кто был вывезен в Германию с оккупированных советских территорий. Эти люди однако на долгие годы оказались на Западе в положении маргиналов, им было не до воспоминаний, надо было устраивать свою жизнь.(Но даже когда публикации очевидцев, рассказывавшие о репрессиях, приобретали некоторую известность, как это произошло с книгой оставшегося в Америке во время войны советского функционера Виктора Кравченко, их авторы становились мишенью для резких нападок со стороны левых прокоммунистических сил, а широкая общественность этой темой не слишком интересовалась.[5])
Можно сказать, как верно замечает Солженицын[6], что эти несколько десятков книг о сталинских лагерях и на Западе имели очень маленький резонанс, а уж внутри России и вовсе не могли быть никому известны.
Широкий интересе к теме репрессий и в России, и на Западе, по сути, возникает с середины 50-х годов.
Первый период можно отсчитывать примерно от 20 съезда КПСС /1956 / до 22 съезда /1961/ и выноса тела Сталина из Мавзолея.
Конечно, среди бывших узников сталинских лагерей были и такие, кто начал делать записи еще и до 20 съезда. Тем не менее, прежде всего критика Хрущевым Сталина и начавшаяся массовая реабилитация явились для большинства из них мощным стимулом к тому, чтобы сесть за воспоминания.
Для мемуаров, написанных или начатых в те годы, существенным является то, что бывшие заключенные сталинских лагерей начали описывать пережитое, прежде всего, не в надежде когда-либо напечататься, а стремясь, наконец, вылить на бумагу то, что многие годы мучительно сидело в памяти.
Многие авторы воспоминаний, написанных в этот период, подчеркивают, что для них способом выживания в ГУЛАГе было не вытеснение из памяти тех кошмаров, которым они были свидетелями, а наоборот, желание все запомнить, чтобы потом рассказать. Так формулирует этот внутренний посыл Евгения Гинзбург: “… запомнить, чтобы потом написать! — было основной целью моей жизни в течение всех восемнадцати лет. Сбор материала для этой книги начался с того самого момента, когда я впервые переступила порог подвала в Казанской внутренней тюрьме НКВД. У меня не было за все эти годы возможности записать что-нибудь, сделать какие-нибудь заготовки для будущей книги. Все, что написано, написано только по памяти” [7].
В унисон к словам Евгении Гинзбург звучат строки из автобиографической книги другой узницы ГУЛАГа — Нины Гаген-Торн, ученого-этнографа: «Память объективно и точно передает совершавшееся. Прошу верить: я веду записи, как исторический документ для будущих поколений, в них нет ни прикрас, ни искажений. Это не агитка, не беллетристика, это запись о пережитом, это попытка наблюдателя точно фиксировать виденное. Так, как привыкли мы, этнографы, во время полевых работ»[8].
Конечно, претензия на то, что в воспоминаниях нет искажений, кажется несколько наивной. Тем не менее, такой посыл и такая мотивировка и в самом деле способствовала и остроте воспоминаний, и их достоверности. (Уже спустя много лет после смерти Евгении Гинзбург было опубликовано ее следственное дело. И оказалось, что даже вопросы, которые задавали ей следователи, и ее ответы, и ход следствия она и в самом деле запомнила просто с поразительной степенью точности).
Но для мемуаров этого периода характерно и другое — то, что иногда негативно влияло на их достоверность. Дело в том, что толчком к воспоминаниям явились для многих бывших узников ГУЛАГа их подаваемые в то время в разные партийные и государственные и судебные органы заявления с просьбой о реабилитации, в которых излагалась биография, и объяснялись обстоятельства ареста. Совершенно естественно, что автор такого заявления, прежде всего, доказывал, что никогда не был врагом народа. Пафос воспоминаний того раннего периода сродни заявлениям о реабилитации: мемуарист тоже настаивает на том, что всегда был предан партии, что был верным ленинцем, никогда не был врагом народа. Писали в духе концепции 20-го съезда партии: виноват Сталин, НКВД, но не партия и уж конечно, не система и не коммунистическая идеология[9]. Это сужало кругозор автора; он, естественно, отметал все, что нарушало этот пафос.
Можно сказать, что некий новый этап в лагерной мемуаристике начинается с публикации в 1962 году в журнале “Новый мир” “Одного дня Ивана Денисовича” Солженицына. Невероятный успех этого рассказа дал толчок многим либо начать воспоминания о лагере, либо, завершив их, отправить в редакции. Несомненно, на короткий период лагерная тема перестает быть такой запретной, какой она оставалась до этой публикации.
“Москва была завалена рукописями мемуаров, рассказов, пьес на тему о репрессиях, о годах сталинщины”,[10] — писал поэт Наум Коржавин, сам в это время уже вернувшийся в Москву из ссылки.
Надо учитывать еще одну особенность того времени: первыми широко распространялись среди читателей не столько мемуары о ГУЛАГе, сколько художественные произведения, например, стихи Варлама Шаламова, ходившие по рукам в рукописных текстах еще в первой половине 50-х годов, повести Лидии Чуковской и др. И “Один день Ивана Денисовича” Солженицына — рассказ, а не воспоминания автора. Это не случайно, поскольку первыми переплавили свой лагерный опыт в художественную форму именно художники, оказавшиеся по ту сторону колючей проволоки.
Однако не пройдёт и двух лет, как с падением Хрущёва лагерная тема снова станет закрытой, и надежды авторов гулаговских воспоминаний на возможную публикацию растают. Но в советском обществе по-прежнему живет острый интерес к теме репрессий, и это является стимулом для многих все-таки продолжать записи, даже без расчета когда либо напечататься.
Об этом почти десятилетнем периоде можно сказать, что он был самым плодотворным для гулаговской мемуаристики. Тогда те, кто был репрессирован в 20-30-е годы, еще хорошо помнили события, имена, даты тридцатилетней давности, поэтому воспоминания того времени являются очень хорошим фактографическим источником.
Можно (конечно, также с большой долей схематизма) но все-таки считать неким рубежом для начала следующего этапа публикацию “Архипелага ГУЛАГ” Солженицына в 1972 году.
Текст книги быстро распространился в самиздате и вызвал сильную и достаточно противоречивую реакцию у репрессированных. Бывшие лагерники сверяли текст Солженицына с собственным опытом, и это также побуждало некоторых к тому, чтобы начать или продолжить воспоминания, полемизируя или соглашаясь с автором «Архипелага».
В 70-е годы гулаговская тема прочно поселяется в самиздате, из рук в руки передаются машинописные копии, или опубликованные за границей книги Евгении Гинзбург, Ольги Адамовой-Слиозберг, Евгения Гнедина, рассказы Варлама Шаламова и др. Одновременно начинается потаенное гулаговедение: диссиденты-историки занимаются сбором лагерных воспоминаний, как бы в продолжение начатой Солженицыным работы для его “Архипелага ГУЛАГ”. Собранное публикуется в самиздатовском сборнике ” Память”.
По мере развития общественной мысли в 70-е меняется и тон мемуаристики. Исчезает характерное для воспоминаний бывших партийцев 50-60-х годов противопоставление “хорошего” Ленина “плохому” Сталину, большее внимание уделяется лагерному быту, деталям повседневной жизни, перенесенным страданиям, анализу собственных переживаний. Исчезает из воспоминаний пафос самооправдания, бывшие узники ГУЛАГа все меньше стремятся доказать, что всегда были верными партийцами и стали просто жертвой доноса.
В 70-е пишут, главным образом, для того, чтобы оставить память о себе и о своем прошлом, пишут для близких, для детей, для внуков. К этому располагает относительная стабильность жизни, возможность для репрессированных иметь собственное жилье и держать рукопись дома, не опасаясь, что придут с обыском.
Совершенно новая эпоха наступает во время горбачевской перестройки. Тут можно, пожалуй, выделить 3 характерных периода.
Период 1987 -1991 годов знаменуется тем, что в обществе впервые с хрущевских времен вспыхивает острый интерес к теме репрессий, к ГУЛАГу. Эта тема перестает быть запретной, о ней постоянно пишут средства массовой информации, в которых печатаются и беседы с бывшими узниками, и фрагменты воспоминаний. Постепенно начинается публикация лагерных мемуаров, никогда прежде не печатавшихся или печатавшихся только на Западе. Бывшие заключенные теперь не боятся упоминать о своем прошлом — наоборот, оно становится предметом общественного внимания, впервые лагерная биография бывшего узника обретает реальную социальную значимость. Память о лагерном прошлом становится ценным достоянием. Тем более, что в тот момент для общества память людей, прошедших ГУЛАГ, — пока единственный источник исторической правды о репрессиях, поскольку архивные документы еще недоступны.
Оказывается, что в стране есть много известных людей, прежде скорее умалчивавших о том, что были когда-то репрессированы, или, во всяком случае, не афишировавших свое лагерного прошлого. Теперь и они садятся за воспоминания или публикуют написанное раннее. Это известные в России ученые, актеры, писатели (Дмитрий Лихачев, Лев Разгон, Алексей Каплер, Георгий Жженов и др.).
Дописывают и дорабатывают мемуары те, кто дожил до этого времени. Несут в издательства рукописи умерших их близкие. Общество и средства массовой информации охвачены в тот момент своего рода эйфорией стремления к исторической правде. Слишком долго идеологическая плотина искусственно задерживала ее поток. То, что хлынуло в этот момент, было порой не устоявшимся, непроверенным, поспешным и недифференцированным. Возникала некая новая мифология — правда, теперь уже с обратным знаком: назывались совершенно фантастические цифры жертв, не подкрепленные никакими источниками. Биографии и воспоминания бывших узников сталинских лагерей воспринимались некритически, и многое бралось легковерными и не информированными журналистами, хватавшимися за эту чрезвычайно модную в то время тему, просто на веру. (Этому способствовало и то, что архивы и фонды, где хранились материалы о политических репрессиях, оставались закрытыми). Возникла романтизация бывших лагерников (как это отчасти было и в годы хрущевской оттепели). Появилась даже некая тенденция, вероятно связанная с комплексом вины за то, что память о прошлом этих людей так долго замалчивалась, считать, что если человек стал жертвой политических репрессий — это как бы априори значит, что это хороший человек. («Отзеркаливалась» столь характерная для 60-70-х годов ситуация с ветеранами Великой Отечественной войны). Характерна, например, такая цитата из предисловия к книге Камилла Икрамова , сына расстрелянного видного партийного деятеля, который сам провел 12 лет в лагерях. Автор предисловия писал: “Камилл Икрамов пишет, что почти не встречал среди детей репрессированных подонков, деляг, карьеристов. Опыт страданий, исказив их жизнь, не сломал их внутренне. Верность отцам перенеслась потом на верность близким, друзьям, людям. Она стала коренной чертой целого поколения” [11].
Конечно, в такой атмосфере критический и исследовательский подход и к лагерной мемуаристике, и к проблемам памяти о ГУЛАГе был едва ли возможен. К сожалению, на этом фоне происходила и девальвация этой памяти.
В 1992-1995 годы интерес к теме репрессий заметно падает. Столько напечатали и узнали страшного и абсурдного, что сначала возникло изумление оттого, какое количество ужаса в нашем прошлом, а потом эти чувства притупились, и постепенно появилось равнодушие.
Серьезного и глубокого анализа проблем, связанных с нашей памятью, с воспоминаниями о репрессиях, не было. Словно какой-то страх мешал подойти к этим текстам с критической оценкой, с попыткой профессионального разбора. Мешало чувство, что замечания, высказываемые в адрес авторов, могут быть восприняты, как нападки на тех, чья судьба была столь тяжелой. Как-то сами собой возникли табу для тех, кто не имел сам тюремно-лагерного опыта, — говорить о лагерных воспоминаниях. А ведь путь многих бывших узников был столь же извилистым и сложным, как и рассказ о нем.
Фактически отсутствие новых по-настоящему ярких, талантливых мемуарных текстов понижает интерес и издательств к этой теме, большинство из них попадает в этот момент в тяжелую экономическую ситуацию и чтобы выжить, публикует совсем другие книги, рассчитанные на финансовый успех. Основные же читатели воспоминаний о ГУЛАГе — представители российской интеллигенции — оказываются жертвами так называемой экономики переходного периода и заняты собственным выживанием.
Постепенное открытие секретных документов, связанных с репрессиями, начавшаяся активная публикации архивных источников также несколько понижают интерес к лагерной мемуаристике. Именно на архивах сконцентрировано в эти годы внимание российских и зарубежных историков, именно оттуда ждут и теперь и получают исторические сенсации.
В последние годы (1996-2001) ситуация стабилизируется. Интерес к лагерной тематике становится менее политически окрашенным, менее лихорадочным и спекулятивным, менее коньюнктурным по сравнению с периодом начала перестройки. Мемуары продолжают публиковаться, хоть и сравнительно небольшими теперь тиражами. Такого рода литературу регулярно издает издательство общества “Мемориал” “Звенья”, обьединение “Возвращение”; лагерные мемуары печатают и провинциальные издательства. Становится возможной публикация таких мемуаров, которые прежде были бы почти однозначно встречены с осуждением демократической общественностью (например, издательством “Звенья” были выпущены мемуары жены одного из видных чекистов-палачей эпохи Ежова [12]). Появляются книги детей репрессированных, в которых воспоминания о родителях перемежаются или дополняются недавно полученными архивными документами [13].
Сама фигура бывшего узника сталинских лагерей лишается романтической окраски, более понятными на основании всего, что удалось за эти годы прочесть и узнать о ГУЛАГе, становятся слова Варлама Шаламова: «Человек, побывав в заключении, не становится лучше… Сталинская коса косила всех подряд, в лагеря была набита отнюдь не лучшая часть человечества, не худшая, но и не лучшая» [14].
Справедливости ради, надо отметить, что в последние годы в России снова усилился интерес к разного рода воспоминаниям, письмам, дневникам. Может быть, сыграло свою роль, что на рубеже веков люди испытывают потребность подвести итог столетия, оценить его с точки зрения биографического опыта очевидцев тех или иных исторических событий. Однако лагерные мемуары по-прежнему не занимают первых мест по шкале читательских интересов.
Авторы воспоминаний о ГУЛАГе — кто они?
Авторы гулаговских мемуаров, к сожалению, весьма однородны по своему социальному составу.
Воспоминаний, написанных выходцами из дворянской среды или дореволюционной культурной элиты, как Олег Волков, Татьяна Аксакова, Дмитрий Лихачев, Николай Анциферов, сравнительно немного. Возможно, одна из причин — многие из людей этого слоя просто погибли в гражданской войне, оказались в эмиграции, и потом долгие годы прятались, поскольку травма страха, боязни быть подвергнутым репрессиям только за свое «социально чуждое» происхождение оказалась, вероятно, очень сильной.
Почти нет или чрезвычайно мало воспоминаний другого социального слоя, составлявшего на самом деле основную массу репрессированных: почти нет крестьянских воспоминаний. Причина также очевидна — подавляющее большинство не были людьми письменной культуры [15]. (Это, кстати, совершенно не означает, что память о репрессиях, жертвами которых стали миллионы российских крестьян, исчезла с исчезновением их биологических носителей. То, что эта память слабо зафиксирована в письменной форме, не значит, что нет нарратива. Доказательством этому послужили, например многие сотни работ со всех концов России, пришедшие на исторический конкурс «Человек в истории. Россия 20 век», объявленного обществом “Мемориал”, в которых уже правнуки репрессированных крестьян рассказывают истории своих прабабушек и прадедушек, которые, как выяснилось, жили в семейной памяти и передавались из уст в уста [16]. (Эту лакуну Солженицын, кстати, почувствовал очень рано. Недаром в «В одном дне Ивана Денисовича» он выбирает в качестве главного героя именно фигуру человека, который сам о себе никогда не напишет).
Также очень мало воспоминаний людей, принадлежавших к оппозиционным партиям социал-демократов, эсэров, троцкистов. Это понятно: оппозиционеры начали свой путь по ссылкам, тюрьмам и лагерям, как правило, на 10-15 лет раньше жертв 37-го года и потому имели гораздо меньше шансов выжить и дожить до времени, когда уже можно было сесть за мемуары (большинство троцкистов, уже сидевших в лагерях, было расстреляно в 37-38 гг.).
Почти полностью отсутствуют — во всяком случае, в письменной форме, воспоминания не жертв, а виновников сталинских преступлений: высших чинов НКВД, организовывавших репрессии, следователей, начальников лагерей, лагерного персонала. (За редким исключением тех из них, кто сам стал жертвой репрессий) [17]. А ведь через эту систему прошли сотни тысяч людей. В 1939 году весь личный состав органов НКВД в центре и на местах составлял 365 839 человек [18]. Основной прирост численности осуществлялся за счет ГУЛАГа. Однако в тридцатые годы кадры ГУЛАГа последовательно подвергались репрессиям (начиная с его руководителей, пятеро из которых, последовательно сменявших друг друга в 30-е годы, были расстреляны). К тому же контингент работников НКВД в лагерях комплектовался часто из не просто жестоких, но еще и нечистоплотных, развращенных властью людей, обворовывавших заключенных. В связи с этим писать какие-либо воспоминания у этих лиц особой потребности не было. Но даже если они и были субъективно честными проводниками сталинских жестокостей, то после 20 Съезда работа в ГУЛАГе или в следственных органах в сталинское время не вызывала в обществе уважения и сочувственного отношения.
Таким образом, получилось, что авторы мемуаров, особенно те, кто писал их в пятидесятые — шестидесятые годы, — это в большой степени уцелевшие партийные и советские работники среднего звена, или представители городской советской интеллигенции, арестованные, как правило, в период Большого террора (37-38 гг.). И хотя практически во всех гулаговских мемуарах есть рассказы о «простых» людях, о беспартийных, рабочих, колхозниках, которые служат доказательством того, что сталинский террор был направлен отнюдь не только против партийной элиты, но и против всего народа, все же общая картина ГУЛАГа, если обрисовывать ее только с помощью тех письменных мемуарных текстов, которые находятся в распоряжении у историков, получается односторонней.
Если говорить и о других особенностях лагерной мемуаристики, то необходимо отметить, что среди ее авторов преобладают женщины, хотя число мужчин, находившихся в лагерях, значительно превышало число женщин. По само простой причине: процент тех, кто выжил в лагере и дожил до того времени, когда смог сесть за мемуары, среди женщин выше, чем среди мужчин. В особенности, в категории ЧСИР (членов семей изменников Родины). Женские мемуары отличаются, как правило, большей эмоциональностью, более скрупулезным описанием лагерного быта, большее значение придается семейным историям, описанию человеческих взаимоотношений. Женщины (особенно в более поздних мемуарах) более откровенны в описании насилия (в частности во время следствия) сексуальных проблем и т.п.
Существует ли среди авторов мемуаров нечто вроде иерархии жертв? Иерархия того, чья судьба была тяжелее, кому труднее было выжить? Тут нет таких уж отчетливых делений, (можно лишь выделить, как говорилось выше, фактически почти поголовно обреченных на смерть троцкистов). Основную роль для возможности выживания играли время и место заключения. “Я давно поняла, что при всей суровости нашего лагеря Особого, номерного, каторжного, режим в нем не шел ни в какое сравнение с тем, что пришлось пережить узникам Колымы в 37-ом и других годах” [19], — это говорится о лагерях Северного Казахстана начала 50-х годов.
Пожалуй, есть только (и была в ГУЛАГе) некая конкуренция между теми, кто был арестован (за социальное происхождение или принадлежность к оппозиции) раньше так называемых жертв 37-года, убежденных коммунистов и, как правило, сторонников режима, которые до своей посадки громили и осуждали тех, с кем потом судьба столкнула их в лагере. И тут иногда может прозвучать и злорадство, и даже удовлетворение, как в воспоминаниях Олега Волкова, начавшего свой путь по лагерям в 1928-ом, по отношению к жертвам 37 года, в частности таким, как Евгения Гинзбург. “Большинство в партии — военные в комсоставовских длиннополых шинелях, без форменных пуговиц и знаков различия…Люди самые разные, но вид у всех растерянный: на лицах — обида и недоумение… У некоторых выражение, словно они не вполне осознают происходящее, надеются, что это им померещилось: они вот-вот очнутся и возвратятся к своим привычным делам — будут командовать воинскими частями, сидеть в штабах, руководить, приказывать, выполнять ответственные поручения за рубежом. Словом, снова вкусят сладости своего положения. Положения лиц, включенных в сословие советских руководителей…” [20].
В подавляющем большинстве авторы воспоминаний (особенно неопубликованных — тех, например, что хранятся в архиве общества «Мемориал») не литераторы, поэтому их тексты, как правило, и не предназначались для публикации. И форма, в которой написано большинство этих мемуаров — документальный, достаточно безыскусный рассказ о том, что они пережили. Авторы редко придают им беллетризированную форму (и это, как правило, неудачный опыт, поскольку настоящего художественного текста у них не получается).
Что и как вспомнилось. Темы и сюжеты лагерных воспоминаний
Многие воспоминания, особенно написанные в 50-70-е годы — за исключением тех, что вырываются из общего контекста, либо благодаря уникальности описываемой судьбы, либо талантливости автора, — достаточно однотипны. Хотя бы по модели описываемой мужской или женской лагерной судьбы (это особенно характерно для воспоминаний так называемых «жен врагов народа».) Порой, когда начинаешь читать тот или иной текст, уже можешь предугадать, исходя из биографии автора, что с ним произойдет дальше и когда на него обрушатся репрессии.
В сущности, за исключением особенно талантливых текстов, которых естественно чрезвычайно мало, многие лагерные воспоминания в силу своей однородности с корректировками географического и временного характера, как бы сливаются в один гипертекст - с дополнениями, уточнениями, продолжениями, а и иногда с одними и теми же героями. При всей огромности ГУЛАГа — сидели вместе, пересекались знакомые и родственники, встречались друг с другом в тюрьмах, на пересылках, в лагерях: «И однажды я увидела его во дворе тюрьмы в узенькую щель окна, которое все было замазано белой краской. Я закричала: Ваня, я здесь! Ваня, я здесь! Я ударила кулаком по стеклу, поранила руку, зато он меня услышал. Но тут в камеру ворвался надзиратель, и только спину брата я еще успела разглядеть, потому что конвоиры, услышав мой крик, увели его с прогулки» [21].
Сопоставлять такие встречи и пересечения чрезвычайно интересно, это захватывает, это почти как « Война и мир» Льва Толстого или «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана.
Неслучайно из воспоминаний в воспоминания переходят так называемые «бродячие сюжеты». Например, очень характерный для женских мемуаров эпизод есть у Евгении Гинзбург, когда она впервые после нескольких лет, проведенных в тюрьме, во время этапа видит себя в зеркале и узнает не себя, а свою мать. Такой же эпизод встречается и в воспоминаниях Ольги Адамовой-Слиозберг и во многих устных рассказах. Иногда можно услышать: это она у меня взяла, это я ей рассказала. А на самом деле все эти женщины просто пережили похожие вещи. Это их общая судьба. Так часто из воспоминаний в воспоминания кочуют строчки стихов, написанных каким-либо лагерным поэтом, переносившиеся из лагеря в лагерь.
Итак, социальная однородность большинства авторов мемуаров позволяют нам увидеть ГУЛАГ по сути только глазами этих людей, а это, как мы хорошо знаем сегодня, далеко не весь ГУЛАГ. Но, с другой стороны, именно благодаря этой однородности, благодаря тому, что в воспоминаниях часто описывается один и тот же круг людей или одна и та же лагерная и тюремная обстановка, создается эффект проверяемости, когда один текст подтверждает или опровергает другой.
Однородность определяется еще тем, что это воспоминания выживших, то есть тех, кому повезло. В отличие от воспоминаний, например, жертв холокоста, в них нет, или почти нет рефлексии по поводу собственного выживания на фоне гибели многих из тех, кто был рядом с ними (как это было иногда у тех, кто воевал и уцелел в Великой Отечественной войне). Особенно это характерно для лагерных мемуаров 50-60 годов. Большинство бывших лагерников, описывая, как они выжили, почти не задаются вопросом о возможной цене выживания. Выжившие — это часто так называемые “придурки”, то есть люди, которые смогли устроиться в силу своих связей или знаний на более легкую работу в лагере.
Глубина и значимость воспоминаний напрямую связана с тем, насколько их автор отдает себе отчет в том, что происходило в стране, и как это повлияло на его собственную судьбу. Надо признать, что многих авторов отличает отсутствие такого рода рефлексии. Как правило, именно эта категория заключенных идентифицировала себя и в лагере, и в тюрьме с советской властью и с партией. В воспоминаниях Камилла Икрамова описывается разговор с подобным персонажем: “Я вас понимаю, Камилл, но представьте себе такую ситуацию: американцы выбросили в район нашего лагеря десант. Они решили вооружить заключенных и повести против Советской власти. И вот с одной стороны-американцы, власовцы, бандеровцы, а с другой, — вохра и наш подлый начальник режима. Ведь вы все равно должны быть с ним, ибо он за революцию!” [22]. Конечно, в своих мемуарах такие люди не защищают Сталина и НКВД, но защищают Ленина, партию и коммунистические идеалы. И если речь идет о чувстве стыда, который испытывают некоторые зеки, это, может быть, стыд партийцев перед неграмотными деревенскими жителями, например, Западной Украины, так называемыми бандеровцами, или иностранцами, за то, что творится в «нашей советской тюрьме» и «нашем советском лагере».
В редких случаях звучит стыд людей образованных за ту жестокость и насилие, которые царят в их стране: “Не трудности испепеляли сердце, жгло чувство стыда за совершаемое… Как бы своей вины — национальной советской — перед такими, как Альма, Гертруда, пани Пилипенко и ее Грицко, перед десятками карпатских крестьянок”. [23]
Гулаговские воспоминания можно условно разделить по психологической установке на несколько групп: безыскусный поток сознания, а мемуарист — жертва сталинского произвола, оставшийся верным ленинским идеалам. Или это способ самоутверждения — я выжил благодаря своим необыкновенным качествам и необыкновенной силе характера. Как правило, наиболее достоверные тексты — те, в которых позиция автора выражается так: я выжил потому, что мне повезло.
По сути, многие воспоминания и представляют собой подробный рассказ о том, как человеку удалось выжить в нечеловеческих условиях. Это в конце концов описание стратегии выживания. Эта стратегия разнообразна и зависит от того, в какую лагерную эпоху автор оказался за колючей проволокой, поскольку (как уже говорилось выше) лагеря конца тридцатых годов, особенно Колыма, — фактически лагеря, где шансы выжить минимальны, это все-таки одно, а исправительно-трудовые лагеря в конце 40-х -начале 50-х годов все-таки несколько другое.
Очень интересный вопрос о времени и пространстве в мемуарах. Они никак не равнозначны жизненной реальности. Так, описание следствия, которое длилось недели или даже месяцы, порой занимает гораздо большее место в памяти бывшего узника, чем долгие годы, проведенные в лагере. Вероятно, первое стоило гораздо большего напряжения душевных сил, шоковое воздействие было более сильным, а месяцы и даже годы лагерной жизни сливались, монотонность тяжкого труда, голодной жизни превращали годы в какой-то один бесконечный день (как это необыкновенно точно определил Солженицын, так и назвав свой рассказ). И выделялись лишь какие-то яркие эпизоды.
«Отличие лагерного сознания от обыкновенного в том, что лагерник теряет ориентир во времени. Заключенный в очень ограниченном пространстве, он и время воспринимает ограниченно — в отрезке дней. За ними следует неизвестность» [24].
Один из наиболее важных аспектов — сравнивая разные мемуарные тексты и устные воспоминания, выяснить, каковы механизмы вытеснения: шок от ареста без всякой вины, непонимание происходящего, ощущение абсурдности и ирреальности. Чрезвычайно травматично действовали на память и перенесенные физические пытки, например, пытки бессонницей, одурманивающие сознание. (Вот характерный пример такой лакуны в памяти. Раиса П., была угнана в Германию, а после войны осуждена за то, что там “изменила Родине”. Она очень подробно описывала в своем устном рассказе тяжелое следствие, причем мучили ее бессонницей — по несколько суток не давали спать, но говорила, что все равно не подписала свое признание в измене. Она подчеркивала, что именно сознание того, что следователю не удалось ее сломить, давало ей силы переносить лагерь. В начале 90-х годов ей удалось получить в архиве КГБ свое следственное дело. И она пришла в состояние шока: «Я несколько дней не могу придти в себя, потому что я увидела в деле свою подпись» [25].
Конечно, тут мог быть подлог и обман следователя. Но, скорее всего, произошло другое — находясь в тяжелейшем состоянии, она все-таки подписала, но сознание всячески вытесняло это. Может быть, именно поэтому этот вопрос играл для нее такую большую роль, ведь очень многие спокойно рассказывали о том, что они все подписали, а она всегда подчеркивала, что она — нет, не подписала протоколы допросов.
Еще более травматично действовало на память, если людям приходилось давать показания не только на себя, но и на других — на близких, на друзей, на сослуживцев. Возникало чувство вины, и чтобы избавиться от него, включался механизм вытеснения.
Новые темы в лагерной мемуаристике и отчасти новый угол зрения возникают уже в следующий период — в конце 80-х годов, когда появляются воспоминания людей иного поколения — тех, кто был арестован уже в послевоенное время. В них гораздо меньшее место занимает тема прозрения, разочарования в Сталине. Эти люди менее слепы, менее идеологизированы, поэтому в их мемуарах гораздо больше бытовых историй, рассказов об отдельных эпизодах или сторонах лагерной жизни.. В этих рассказах, в особенности, если речь идет о послевоенном времени, граница между лагерем и волей предстает гораздо более зыбкой, чем в воспоминаниях представителей партийной элиты 30-х годов. Труд военного времени, разного рода трудмоболизации если и не были частью ГУЛАГа, то все же носили принудительный характер. Поэтому переход из так называемой свободы в лагерь был не столь разительным, как для многих из тех, кто был арестован в конце тридцатых и попал в тюрьму прямо из своего рабочего кабинета.
Чрезвычайно характерной для воспоминаний, появившихся уже в новое время, является книга Руфи Тамариной. Автор принадлежит фактически к последнему призыву узников ГУЛАГа — она была арестована в конце 40-ых годов. Характерно, что будучи литературным работником, она (и это тоже довольно типично для многих людей сходной с ней судьбы), садится за воспоминания так поздно. Более того, в своей книге она объясняет, почему это произошло. По сути автор (и это очень интересно для исследователя памяти и опыта ГУЛАГа) выдвигает две причины своего долгого молчания. Первая и вероятно самая важная — это долго сидевший в ней страх. И вторая — это декларируемая Тамариной необходимость забвения. В отличие от мотивировки Евгении Гинзбург — «выжить, чтобы рассказать о пережитом», ей для того чтобы выжить, надо было забыть или вытеснить. Ее книга, написанная фактически уже в очень пожилом возрасте, когда ей было под семьдесят, свидетельствует о том, что она не писала прежде не из-за того, что не могла вспомнить, а из-за того, что не хотела вспоминать всего того тяжелого и страшного, что происходило с ней во время следствия и потом в лагере. И прежде всего потому, что ей было страшно.
Дело в том, что люди старшего поколения, фактически поколения ее родителей, репрессированные во время Большого террора, если им удавалось выжить и выйти на свободу, все-таки если не просто доживали свою жизнь (например, у того же Олега Волкова она оказалась достаточно длинной и после лагеря), то во всяком случае очень большой и значительный кусок этой жизни оказывался в прошлом. А Руфь Тамарина и такие как она, попавшие в ГУЛАГ молодыми, оказывалась в ситуации, когда нужно было очень быстро наверстывать потерянное время, начинать жить, выходить замуж, рожать детей, искать сколько-нибудь перспективную работу, словом обустраиваться в жизни. Наставать в какой- бы то ни было форме на своем гулаговском прошлом даже в хрущевскую эпоху казалось им у опасным. (Наоборот, нужно было вытеснять воспоминания, освобождаться от прошлого). К тому же, их не выпускали из поля зрения и органы безопасности. Неслучайно предложения о «продолжении сотрудничества» поступали именно этим молодым и, так сказать, перспективным бывшим узникам.
Итак, с одной стороны — страх перед органами, которые и после освобождения и реабилитации не выпускали бывшего заключенного (как это было с Тамариной) из своей орбиты, с другой стороны, и в самом деле желание вытеснить страшное прошлое. Зато когда уже совсем недавно она освободилась, наконец, от этого страха, она подробно рассказывает о том, как шла с органами госбезопасности на контакт, как подписывала бумажки, которые от нее требовали подписать, и как , по сути, прикрылась своей беременностью, чтобы прервать эту мучительную для нее зависимость. (Такой откровенный рассказ об этих связях с органами безопасности характерен для воспоминаний, написанных уже в перестроечное и постперестроечное время).
Многие воспоминания последних лет, несмотря на декларируемые провалы в памяти носят гораздо более откровенный характер. И не только когда речь идет о связях с госбезопасностью, но, например, о сексуальных отношениях в лагере. (И в этом смысле воспоминания Тамариной, в которых она рассказывает о своих даже и случайных связях, написаны с такой степенью откровенности, которая прежде, еще 20-30 лет назад, когда создавалась основная масса гулаговских воспоминаний, была едва ли представима для людей, принадлежавших к довоенным советским поколениям).
Стремление авторов воспоминаний, написанных в последние годы, быть, насколько это вообще возможно в воспоминаниях, достоверными, еще в какой-то мере продиктовано и тем, что они получили возможность познакомиться со своими следственными делами, и со следственными делами своих репрессированных родителей или родственников. «И вот я держу ее в руках. Эту тоненькую коричневую папочку. Ту самую. На ней еще остался бледный след от чернильницы, которую опрокинул, ударив кулаком по столу, мой следователь. Теперь я знаю, как его звали, — Лобанов была его фамилия. Сколько же прошло времени? Дай посчитаю: 52 года и 7 месяцев. Мог ли я думать тогда, когда Лобанов не спеша обминал эту новенькую коричневую папочку, что более чем через полвека я не только еще буду жив, но и с замирающим сердцем буду перебирать несколько бумаг, в ней находящихся» [26]. Авторы сегодня написанных воспоминаний сознавали, что во-первых, есть шанс, что эти дела могут увидеть и опубликовать и другие — во всяком случае, так казалось в начале перестройки. Во-вторых, открытость теперь гулаговской темы для публикаций дает возможность сравнивать открыто сведения, сообщаемые в разных мемуарах.
Другая существенно более сложная тема — это тема сопротивления в ГУЛАГе. В ранних воспоминаниях, как уже говорилось выше, авторы стремились к тому, чтобы доказать свою невиновность (и таким образом, в конечном счете, преданность режиму) и поэтому совершенно естественно, что тема сопротивления почти не возникала. Да и сами эти люди «призыва» 37-38 годов, уже не были участниками лагерных восстаний послевоенной эпохи. Тем большим откровением явились страницы «Архипелага ГУЛАГ», посвященные этим восстаниям. Наоборот, в конце 80-х в связи с усилением в обществе антикоммунистических настроений, тема сопротивления сталинскому режиму явно начинает выходить на передний план и часто романтизируется. (Впрочем, этой романтизации не избегает и Солженицын).
Всякое выживание в нечеловеческих условиях лагеря — это уже сопротивление. В сущности, это внутренний стержень многих мемуаров — как я сумел выжить в лагере и в тюрьме. Однако подогреваемая антитоталитарным пафосом периода гласности, в мемуарах, написанных в начале 90-х годов, тема активного сопротивления режиму предстает иногда в героизированном и мифологизированном виде. [27]. Интересно, что в записках Тамариной, написанных уже совсем недавно, в конце 90-х, она уже пытается создать обьективную и дифференциированную картину событий, в которых разобраться очень нелегко. Оправдываясь за написанную ей фразу: «Я чувствовала себя, как в оккупации» [28] и подчеркивая дух национального единения и поддержки, царящий в разных национальных землячествах ГУЛАГа, она, тем не менее замечает, что антисоветские настроения этих людей иногда чем-то напоминали настроения периода немецкой оккупации ( вероятно, имея ввиду их антисемитизм).
Кстати, тема межэтнических отношений, тема антисемитизма также больше выходит на поверхность в воспоминаниях, написанных уже в позднее время. И тоже по понятным причинам — прежде тема межэтнических отношений, а тем более антисемитизма так же часто вытеснялась из общественного сознания. У людей еврейского происхождения, которых много среди авторов воспоминаний, особенно из поколения жертв 37- года, было достаточно сложное отношении к своему происхождению, особенно, если они принадлежали к партийной элите. Ведь они, как правило, порвали с традицией и с религией, заменив одну веру другую. Еще до всякого государственного и широкого общественного антисемитизма меняли свои фамилии и вытесняли свое еврейство. Ситуацию несколько изменила война, массовое уничтожение евреев и поднявшийся одновременно с этим и необычайно усилившийся к концу 40-х годов антисемитизм, всячески поощрявшийся и насаждавшийся властями. И те, кто оказался в лагерях именно в это время, сегодня говорят более открыто об антисемитских настроениях в лагерях.
Война явилась рубежом в истории ГУЛАГа, в лагере оказались иные люди с иным жизненным опытом, с меньшими иллюзиям по поводу режима и власти… В отличие от поколения 30-годов и с меньшей степенью идентификации с советским режимом, в воспоминаниях, в которых изображается лагерь конца 40х — начала 50-х , этот лагерь в гораздо большей степени — форма жизни, продолжение жизни, какой бы ужасной она порой не казалась. Молодые люди вроде Руфи Тамариной с 25-летними сроками считают, что попали туда на всю жизнь, поэтому для них и в лагере жизнь продолжается во всех ее аспектах, даже с любовными и сексуальными связями, которые также чрезвычайно упростила война.
Так же для мемуаров последних лет характерно, что их авторы в какой-то мере сознательно стремятся вспомнить и упомянуть тех, кто не оставил (не смог или не захотел) воспоминаний, — как правило, людей неписьменной культуры, людей из других социальных слоев. Теперь, когда открылись архивы и мы узнали цифры, стал ясен масштаб репрессий. Оказалось, что кроме 4 миллионов арестованных по политическим обвинениям более 17 миллионов было у нас репрессировано по так называемым указам военного и послевоенного времени и что формула «полстраны сидела» по сути правильна. Судили за опоздания, за самовольное покидание рабочего места, за невыполнение трудодней, за мелкие хищения и т.п. Несколько сот тысяч женщин и врачей — за «криминальный аборт», потому что у нас в течение 20 лет аборты были запрещены. А воспоминаний- никаких. Конечно, лагерный опыт этих людей не у всех измерялся десятилетиями. Иногда несколькими годами. Даже условным сроком. Тем не менее опыт принудительного труда был у огромного количества людей. А письменных следов этого нет. Ведь эта была «немотствующая» часть нашего населения. Маргинальная. «Безьязыкая улица».
Вообще, многие, особенно неопубликованные воспоминания настолько перегружены именами, фамилиями, чужими историями, что порой напоминают по жанру «телефонную книгу». Читать такие свидетельства, несмотря на их историческую значимость, тяжело, а вот для понимания, почему память так цепко удержала в памяти такое количество разных фамилий, эти тексты очень важны. Это была вероятно подсознательная компенсация за то, что человек оказывался в совершенно замкнутом пространстве на годы, оказывался с одними и теми же людьми. Поэтому любая перемена, любое расширение этого пространства благодаря новому лицу навсегда застревали в памяти.
Конечно, все это чрезвычайно больные темы и касаться их очень тяжело, особенно нам — людям без лагерного и тюремного опыта. И тяжело рассудить в исторически-литературном споре между Шаламовым и Солженицыным. Потому что этот спор — о коллективной и индивидуальной памяти. Существует ли вообще коллективная память, когда речь идет о таких вещах, как тюремный и лагерный опыт. По сути, позиция Шаламова в том, что в отношении лагерного опыта никакая коллективная память невозможна. Он ведь прямо говорит в своих дневниках: «я не историк лагерей» [29]. Говорит, что один человек не может написать правду о Колыме, что «война может быть приблизительно понята, а лагерь нет». Шаламов, как большой писатель, видит ограниченность любого личного опыта перед такой огромной трагедией. Но ему кажется, что и сумма этих опытов тоже ничего не даст. Для Шаламова память о лагере — это средство выживания и в какой-то мере способ сопротивления. Я помню — значит я жив.
Устные рассказы
С конца восьмидесятых годов появляется новое направление в гулаговской мемуаристике — это так называемые устные рассказы, то есть рассказы, записанные на аудио- или видеопленку.
Жанр записи использовался и в семидесятые годы неофициальными историками, однако особое значение он приобрел именно с конца восьмидесятых. Появилась возможность широко опросить тех, кто по разным причинам не написал мемуаров. Для тех, кто не мог и не умел писать сам, жанр устного рассказа оказался более спонтанным и естественным. В разговоре, как показала практика, человек мог коснуться и таких болезненных и тяжелых тем, которые он не решился бы передать на бумаге. Кроме того, устная форма гораздо лучше фиксирует разговорную лексику, а социолингвистика дает ключ к пониманию гулаговской проблематики на более глубоком уровне. В устной речи человек более склонен передавать легенды и мифы лагерной жизни.
Магнитофонные записи хранятся в Центре Устной истории Российского Государственного Гуманитарного университета, в архиве общества “Мемориал”, в Народном архиве.
Очень важно для значения воспоминаний, что у нас фактические нет никакого визуального ряда памяти о ГУЛАГе, что также является очень важным фактором особенно для молодого поколения, прежде всего привыкшего теперь представлять себе многое в виде именно зрительных образов. Сохранилось лишь несколько коротких документальных фильмов, которые снимались в Соловках и Ухте с пропагандистской целью показать исправительный характер советских мест заключения. По этим пропагандистским фильмам также совершенно нельзя судить о реальной жизни советских заключенных. Нельзя судить о ней и по немногим сохранившимся в личных архивах бывших узников ГУЛАГа рисункам. Настроение передают быть может лишь тюремные фотографии в анфас и в профиль, сохранившиеся в следственных делах. И некоторые редкие сохранившиеся рисунки, сделанные в ГУЛАГе.
Память и документы
Если в течение нескольких десятилетий у нас главным историческим альтернативным источником была память, то с начала 90-х годов впервые возникает документ. Происходит то, на что никто и не надеялся: приоткрываются секретные архивы и все историки бросаются от воспоминаний к документам.
А что, в сущности, такое — секретные архивы? Это то, что наша система считала нужным сохранить, то есть память системы. И теперь уже после нескольких лет напряженной архивной работы многих исследователей можно, наконец, попробовать сопоставить две эти памяти и посмотреть, как одно опровергает или, наоборот, подтверждает другое.
Примеров можно приводить очень много, и один из существенных — это феномен 37-го года. Потому что очень долго существовал миф, что больше всех тогда пострадала партийная номенклатура. Это с одной стороны. С другой, — наше сознание воспринимало 37-й как десятки миллионов жертв. На самом деле теперь благодаря архивным документам мы знаем, что за два года большого террора было арестовано несколько более 1 миллиона 600 тысяч человек и расстреляно более 650 тысяч. Кроме того, мы знаем теперь достоверно, что жертвами 37-го была отнюдь не только и не столько партийная номенклатура, а что все эти десятки и сотни тысяч дала так называемая «кулацкая» операция.
Тут еще много можно было бы приводить примеров, сравнивать, но все-таки главное, что нам дали архивные документы, – это понимание того, как функционировала система. И тогда стало совершенно ясно, почему эта система не скрыла следов своих преступлений — не уничтожила архивных документов, а наоборот, тщательно сохраняла все, что относилось к репрессиям. Потому что уничтожение бумаг было равносильно уничтожению самой системы. Еще одна очень важная вещь подтверждается документами – характерное для любой тоталитарной модели (а для нашей особенно) сочетание плановости и абсурда. Это видно на примере того же 37-го года. Оперативный приказ НКВД 00447 от 30 июля 1937-го, ставший сигналом к началу массовых репрессий, дает плановые цифры — лимиты на аресты и расстрелы, которые спускаются сверху в регионы. То есть, с одной стороны, вроде бы вся эта массовая операция тщательно планируется. С другой стороны, чудовищная массовость репрессий породила невероятный хаос в бюрократической машине. Выполнение планов по арестам заставляло местные органы арестовывать кого угодно и где угодно и в этом смысле архивные документы подтверждают самые фантастические свидетельства.
Открывшиеся сегодня архивные источники нисколько не умаляют, а наоборот, подтверждают по-прежнему необычайную важность такого источника, как память. Эти архивные документы (какими бы потрясающими по своей разоблачительности они ни были) тем не менее недостаточно говорят о судьбе отдельного человека, попавшего в челюсти (говоря языком Канетти) перемалывающей его государственной машины. Дело в том, что человек в этих архивных документах словно исчезает, он и в самом деле превращается лишь в лагерную пыль. И в этом ядовитость и даже опасность этих документов. Они словно пытаются завершить то, что до конца не удалось сделать репрессивной машине — уничтожить человека реального, оставив лишь безымянного заключенного. Даже в том случае, когда, наконец, начнется подробное исследование архивов ГУГАГа, в которых зафиксированы регламент жизни заключенных, определены нормы питания, санитарные нормы (а до сих пор этим подробно российские исследователи фактически не занимались), это не уменьшит ценность письменных воспоминаний. Ведь все эти данные по совершенно понятным причинам не совпадают с тем, что сохранила память заключенных. Таким образом, для наших знаний о ГУЛАГЕ мемуары останутся очень важным, хоть и субъективным, источником.
Человека и личную судьбу мы можем найти только в воспоминаниях.
Очевидно лишь, что, наконец, наступило время для их по-настоящему глубокого и критического анализа, чего вплоть до последнего времени фактически не было. К сожалению, до сих пор мы не занимались серьезным исследованием того, не что, а как и почему вспомнилось.
Это представляет вечную проблему правды и лжи в воспоминаниях в несколько ином свете. Сегодня нам уже не так важно доказать, что то, что человек пишет, — неправда. Это в ситуации гласности и доступа к архивам вполне возможно. Гораздо более существенно понять, почему человек лжет, какие у него срабатывают механизмы вытеснения и самооправдания. Почему он именно так, а не иначе моделирует свою биографию.
Со всем этим мы еще только начинаем разбираться. Но, кажется, время для спокойного размышления о том, что это такое — память ГУЛАГа, память о репрессиях, наконец пришло.
Ирина Щербакова
[1] Память. Исторический сборник. Москва, Самиздат, 1976. New York 1978, Р.VII-VIII. (S. — это страницы, почему тогда латиницей и латинские цифры?)
[2] Цитируется по немецкому изданию: Primo Levi. Die Untergangenen und die Geretteten.München Wien, 1986, S.19.
[3] Иногда написанные этими людьми книги служили для активной контрпропаганды против СССР. Например, вышедшая в нацисткой Германии накануне войны миллионными тиражами книга Карла Альбрехта «Преданный социализм», в которой автор, бывший немецкий коммунист, рассказывает о своей карьере в СССР, аресте и пребывании в советской тюрьме. См. Karl I. Albrecht: Der verratene Sozialismus. Zehn Jahre als hoher Staatsbeamter in der Sowjetunion. Berlin,1941.
[4] Margarete Buber-Neumann: Als Gefangene bei Stalin und Hitler. Eine Welt im Dunkel. Koeln,1952. Alexander Weissberg-Cybulski: Hexensabbat. Russland im Schmelztiegel der Säuberungenю Frankfurt/M., 1951.
[5] Victor Kravchenko. I Chose Freedom. London, 1948.
[6] Александр Солженицын. Бодался теленок с дубом. Москва, 1996, с. 351.
[7] Евгения Гинзбург. Крутой маршрут. Москва, 1990, с. 592-593.
[8] Н.И. Гаген-Торн. Memoria. Москва, 1994.
[9] Для авторов-выходцев из партийной среды такая концепция была характерна и в более позднее время. Таковы в сильной степени воспоминания Анны Лариной-Бухариной, вдовы Николая Бухарина, написанные ею, или вернее законченные, уже в конце 80-х годов, в которых очень силен реабилитационный пафос — прежде всего оправдания Бухарина, который и в самом деле был реабилитирован уже в горбачевскую эпоху. См. Анна Ларина (Бухарина). Москва, 1989.
[10] Цит. по: О.Л. Адамова-Слиозберг. Путь. Москва, 1993, с. 3.
[11] Камилл Икрамов. Дело моего отца. Москва.,1991, с. 4.
[12] М.М. Яковенко. Агнесса. Москва, 1997.
[13] Например, книга Л.К. Танкаевой “Дойти до самой сути”. Москва, 1997, в которой рассказывается история ее репрессированного отца с привлечением его следственного дела.
[14] Шаламовский сборник. Выпуск 2. Москва,1997, с.64.
[15] Один из немногих ярких крестьянских мемуаров — записки брата известного советского поэта Александра Твардовского Ивана Твардовского.
[16] См. сборники «Человек в истории. Россия 20 век.1999-2000», Москва, 2000, и «Человек в истории. Россия 20 век. 2000-2001», Москва, 2001.
[17] См. воспоминания Михаила Шрейдера “НКВД изнутри. Записки чекиста”. Москва,1995.
[18] Эти данные приводятся в книге Г.М. Иванова “Гулаг в системе тоталитарного государства”. Москва, 1997, с.161.
[19] Руфь Тамарина. Такая планида, или Зарубки на щепке. Томск, 2002, с.140.
[20] Олег Волков. Погружение во тьму. Москва, 1992, с. 247-248.
[21] Из записи воспоминаний Паулины Самойловой-Мясниковой. Архив И. Щербаковой
[22] К. Икрамов, с.108.
[23] Н.И. Гаген-Торн. Memoria. Mосква,1994, с.144.
[24] Там же. С. 242.
[25] Воспоминания Раисы П. Из архива И.Щербаковой
[26] Лев Разгон. Пленник эпохи. Москва, 2002, с.13.
[27] В этой связи характерная история произошла с книгой Анатолия Жигулина “Черные камни”, Москва, 1990, вызвавшей много возражений со стороны других участников этой молодежного кружка.
[28] Руфь Тамарина, с.150.
[29] Шаламовский сборник. С.67.