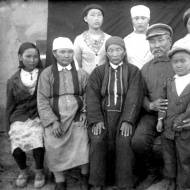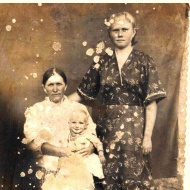Полыни-то в жизни не меньше, чем медоносов / Анжелика Архипова, Виктория Архипова
Бабушкино сравнение жизни с полынью и медоносными травами неслучайно. Она прожила в постоянном ожидании счастливой, лучшей женской доли. Но счастья ей досталось мало: и раннее сиротство, и война, вторгшаяся в жизнь, по сути, лишившая ее мужа, отца ее ребенка. И вечно тяжелый труд – на тракторе, кочегаром, чтобы выживать, чтобы «хорошую пенсию получать», чтобы «было на что похоронить»…
Тетрадь со стихами
Мятая, потертая и поблёкшая, когда-то голубая, а теперь серая ученическая тетрадь, объёмом в двенадцать листов и ценою в две копейки… Тетрадь нашей прабабушки – Екатерины Григорьевны Наумовой. В большой картонной коробке, среди старых документов, справок, писем, фотографий, лежащих на антресолях, мы и обнаружили эту тетрадку.
Как выяснилось, несколько лет назад тетрадь была подарена нашей маме её бабушкой. Со слов родителей, эта рукопись была не единственной, всего тетрадей от бабушки Кати осталось пять, но, к сожалению, кто-то из родственников, по словам мамы, взяв почитать записи, позже их не вернул.
Детство: как маме пришлось нелегко!
Родилась баба Катя 7 января 1921 года в маленькой деревушке с названием, идущим, видимо, от времен освоения Сибири первопроходцами – Караульное Тогучинского района. (Неподалеку – Бердский острог.) По сибирским деревням, как и по всей стране, смертельным валом катился голод. Отец, Наумов Григорий Кириллович, в начале ХХ века переселившийся в Сибирь на «свободные земли», сражался на фронтах Гражданской за красных. Там и узнал от земляка о рождении дочери. Впервые увидел Катю, когда девочке исполнилось уже три года. Видимо, были какие-то сомнения у него в душе по поводу верности жены – дочка ему не понравилась. Зато дед Кирилл, его отец, очень любил Катю, «драниками даже подкармливал, на колени пускал посидеть и игрушки строгал из дерева…» Это как-то компенсировало недостаток отцовской любви, потому что сама Катя на «тятю не обижалась», а вот деда любила больше. Уже, будучи сама прабабушкой, она написала об этом:
В холодную зимнюю бурю,
В ненастную темную ночь,
В селе у солдатки, у Нюры,
На свет появилася дочь.
Когда дед Кирилл вошел в хату,
Понравилась внучка ему.
Письмо отписал он сыночку-солдату:
Вот радости будет тому!
Три года исполнилось Кате,
Вернулся отец к ней родной.
Но та не понравилась тяте
И стал для неё он чужой.
Уставший от мытарств войны, больной и раздражительный, отвыкший от домашнего тепла, Григорий не сразу начал менять суровое отношение к семье – только когда в 1925-м родился сын Володя он потеплел к жене. В сыне души не чаял – вытаскивал его из люльки, подвешенной в кухне к потолку, и сиплым, но ласковым голосом напевал:
Потягушечки, порастушечки,
Ноженьки – побегушечки.
Рученьки – работушечки,
Глазоньки – поглядушечки.
Его песни-причитки были бесконечными. Наверное, тяга к сочинительству и рифме у Кати впоследствии совсем не случайно появилась. А радость Григория была вполне понятна родным, да и нам, сегодняшним его праправнукам, это легко объяснить: в условиях сельской жизни от мальчика изначально ждут мужской поддержки, он будущий работник, кормилец, опора семьи.
После рождения сына дети пошли один за другим. Почти в каждой крестьянской семье, по воспоминаниям сестер нашей прабабушки, была похожая картина: рождалось, бывало, более десяти детей, а выживало трое-пятеро.
В 1935-м родилась Нина, в 1938-м – Лиля, в 1939-м – Надя. Муж частенько напоминал жене, что это про неё сочинена «байка»: что год, то ребенок, худой год – два. Хотя мать-то была совсем не виновата, оградить себя от очередной беременности не могла: мужа боялась, да и не очень-то понимала, как это делается. Многие бабы в деревне умудрялись «скинуть», для чего «пили дикий перец, луково перо, едку хину» или ещё страшнее: прыгали с сарая, поднимали тяжелый мешок. Часто это заканчивалось сильным кровотечением и гибелью женщины. Нюра боялась этих способов: ещё и рожденных детей осиротить можно, что случалось нередко с бабами.
Жили в деревне, работали в колхозе, никаких отпусков по рождению детей и уходу за ними власти не давали. До последнего дня перед родами и косили, и сеяли наравне с мужчинами. А уж пропалывать вручную гектары колхозных полей под палящими лучами солнца считалось лёгким бабьим делом. И рожали бабы сами. Каких-либо серьезных приготовлений к родам не было. До ближайшего фельдшера надо было добираться либо пешком, либо на лошади – до райцентра (ныне г. Тогучин), более 40 км. К фельдшеру обращались редко – председатель колхоза считал, что «детей ещё нарожаете, а лошадь надо беречь». Да и лошади были такими, что нередко отправленный в зимнее время в райцентр с бумагами колхозный курьер исчезал вместе с истощенной кобылкой: замерз или волки порвали. Волки ходили тогда стаями, чувствуя себя полными хозяевами. Очень печалились в деревне, когда однажды погибла от них молодая учительница из города – поехала под Новый год за наглядными пособиями в роно и не вернулась.
В год рождения последней дочери, Нади, Григорий простудился, поболел несколько месяцев и умер. Вот как описывает этот печальный факт сама Катя:
…И тут заболел у нас тятя.
Как маме пришлось нелегко!
Трудилась на тракторе Катя,
Не дома, в селе, – далеко.
Тут, говоря о себе в третьем лице, она имеет ввиду под словом «далеко» полевой стан в 15 км от села. В 30-е годы было нормой вырывать людей из нормальной семейной жизни на весь период посевной или уборочной. Местная власть в лице председателя колхоза, парторга и прочих полагала, что проживание в вагончиках экономит время (ведь не надо спешить домой, тратить время на дорогу, даже повар проживал здесь же). Бывало, неделями родители не виделись с малолетним детьми, брошенными на попечение бабушек или старших ребятишек.
Легли на Володины плечи
Солома и сено, дрова.
А мать – и к отцу, и на поле, и к печи…
А скоро уж будет вдова.
Осталась Екатерина с семью детьми на руках. После похорон вытащила иконку (Григорий привез в свое время с фронта большой портрет Ленина, в рамке и под стеклом, повесил его в красный угол, а икону велел выбросить, но жена припрятала её на дне сундучка). Теперь достала и молилась каждый вечер за детей. Портрет Ленина унесла в сельсовет, а чтоб не подумали, что «Ленина не уважает», сказала, что такому дорогому портрету лучше в школе или в клубе висеть. Председатель сельсовета с ней согласился и Ленина отдали в местный клуб. Не трудно предположить, чего просила в своих молитвах вдова: детей поднять. Но просвета в жизни не было.
«Ещё до войны досыта не наедались, а тут вскорости и фашист напал, стало еще тяжелее. Картошку берегли, чищенной не видели. В мундирках варили, чтобы не срезать нисколько. Делали затируху из лебеды. В ход шли и корешки, особенно по весне собирали всякую траву. Животы раздувало, но на работу шли: задания в колхозе приходились на каждого ребенка. Возили воду в бочках ребятишки 6–7 лет. А уж с 10 лет, как взрослые мужики, выполняли тяжелую работу: заготавливали дрова на зиму, копнили сено, возили его на ферму. Им же, детям, приходилось и дома всю работу по хозяйству выполнять, и за младшими приглядывать. Те ребятишки, что поменьше, тоже без дела не сидели. Все чем-то да помогали мамке».
Это вспоминает сестра Кати, Нина.
Сама же Катя к этому времени, получив пять классов образования (потом школа сгорела, учиться стало негде), пошла работать в колхоз. Закончив перед войной курсы трактористов, была направлена в отдалённое село (об этом мы читаем и в стихотворных воспоминаниях бабушки Кати).
В памяти 85-летней Екатерины Наумовой навсегда отпечаталась картина, как в этом селе арестовывали мальчишку лет 15–16 – прямо с поля, где он работал сменщиком у пожилого тракториста. Растерянный, с глупой улыбкой на веснушчатом, совсем ещё детском лице, никак не мог понять, куда его и зачем уводят. Просился домой забежать, предупредить мать – не разрешили. Позже оказалось, что виноват он в «умышленной поломке трактора, чтобы саботировать посевную». Слух прошел, что наставник этого мальчишки подстроил всё, чтобы себя защитить – трактор действительно простаивал из-за серьезной поломки, старый был. Катя долго не могла смириться с тем, что произошло. Но вслух усомниться в «справедливости наказания» себе никогда не позволяла: зачем? Повторить судьбу арестанта? Старалась вообще на эту тему не говорить – ни с осуждением, ни с оправданием в разговоры не вступала. Всегда мог найтись тот, кто усмотрит какой-то особый смысл в любых безобидных словах.
«Цена» семейного счастья
В 20 лет Екатерина вышла замуж, за такого же, как и сама, работящего парня – Ивана. Но семейное счастье было совсем коротким – мужа забрали на фронт. Осталась беременная, молила Бога, чтоб вернулся живым. Вернуться-то он вернулся в 1946-м… но не к ней. Война искалечила многие судьбы, разрушила не одну семью.
А дело было самое обычное – муж Кати ушел на фронт уже в первые месяцы войны. Ребенок на свет должен был появиться где-то в декабре. И тут две сестры мужа явились за вещами брата к невестке домой: «Отдай пиджак. Он может и не вернуться с фронта, там сейчас такое творится…» Обескураженная Катя не столько пиджака пожалела (хотя из всего гардероба это была самая дорогая вещь), сколько возмутилась бесчувственности родственниц. Да и выставила их вон. А те не простили, брату письма писали, в которых приписывали ей все грехи, какие только возможны. И поверил фронтовик сестренкам, а не жене. Катерина гордая была, не стала оправдываться, к 1946-му, когда он вернулся, дочь уже подросла. Надеялась, что придёт, увидит, как живут они с дочкой и поверит ей.
Очень трудно, конечно, пришлось, особенно в первую пору: ребенок маленький, работать в колхозе тяжело. Пожалел тогда председатель колхоза – поставил Екатерину временно кладовщицей, пока младенец подрастет. А она, изголодавшаяся, уже в первые дни добралась до фляги с медом и по две-три ложки съедала – было не очень заметно, площадь поверхности-то большая, мед колхозный стоял для отправки в город.
«Вот Бог и наказал, – уже в пожилом возрасте раскаивалась Екатерина Григорьевна. – Заболела Лидочка, ведь молоко я испортила, кормила-то грудью. Горит бедная вся, кожа на тельце пошла струпьями, мокнет». Переполошилась Катя, дело плохо. Как всегда – путь один, к повитухе. Та, видимо, поставила верный диагноз, к тому же и Катя рассказала, что ела втихомолку «казённый» мед, – золотуха у ребенка. Старуха велела ей молчать про воровство, чтоб беды не накликать, а дитя лечить «от сглазу». Но не столько молитвами, сколько проверенными народными средствами: заваривать листья капусты и свеклы и купать в отваре девочку. Катю скоро перевели на обычные работы: сеять, полоть, косить, убирать урожай.
Не думала она, что ее после войны ждет предательство и одинокая горькая судьба «брошенки».
Муж Кати, вернувшись, женился вскоре на Катиной подружке Шуре. Та чувствовала себя виноватой, старалась не встречаться, переходила на противоположную улицу, если шли друг другу навстречу. Но избежать серьезного разговора все же не удалось. Отправил муж свою новую жену за тем самым злополучным пиджаком. Как ни «тошнёхонько» ей было выполнять это поручение, отказать побоялась. Катя встретила её спокойно, напоила чаем. Шура плакала, что не виновата, «сам Иван предложил сойтись, ну, откажись я, он бы к другой ушел, мужиков-то в деревне почти не осталась». Понимала подруга и то, что для разрыва с семьей выбрал Иван надуманную причину, сам-то не верил в Катину неверность, да и она знала, что не в чем было обвинить Екатерину – в деревне всё на виду.
Но, как мы сегодня оцениваем произошедшее, причина в ситуации послевоенного времени: «на сотню девок один мужик», как говорила сама бабушка Катя. Вот они, независимо от внешности, характера, трудолюбия, и были нарасхват.
Вскоре родились у Ивана и Шуры одна за другой две девочки, а Лидочка бегала их нянчить. Не было у нее зла ни на отца, ни на его детей. Когда кто-то жалел её – вздыхала по-бабьи и говорила: «У каждого своя судьба». Конечно же, шла эта недетская мудрость от её матери, Екатерины. Она была убеждена, что каждый проживает ту жизнь, что начертана ему свыше. Да и чего роптать на судьбу, коли вокруг столько вдов осталось, да не с одним, а с тремя-пятью детьми…
В надежде на мужскую опору
Екатерина была красивая, любила причёсывать «на разный манер» свою длинную косу: то крендельки соорудит на затылке, то вокруг головы обовьёт «плетёночкой», но чаще, взбив волосы надо лбом, захватывала их на макушке «приколками» (это почти булавки, но не такие острые, с закругленным кончиком-петелькой), а косу сворачивала в два слоя. «Получалось прямо по-городскому», как была убеждена сама Катя. Разглядывая старенькие фотографии, мы действительно отмечали «фасонистость» молодой женщины. Её любимое крепдешиновое платье, сшитое «татьяночкой» (широкая юбка, собранная по талии обычным швом-сборкой, рукавчики-фонарики, ряд мелких пуговиц на груди), и сегодня могло бы посостязаться с гардеробом модниц. А ведь шила она его сама – на руках, получив за хороший труд (к ноябрьским праздникам) в колхозе, еще в 1943-м, кусок неведомо откуда взявшейся у председателя дорогой ткани. Берегла его, надевала только в самых торжественных случаях. В этом платье выходила во второй раз замуж.
В конце 1946-го года к ней посватался односельчанин. Был Александр значительно старше Кати, но она рада была выйти и за него. «Позвал – пошла, всё легче с мужиком выживать». Немаловажным фактором было и то, что работал он заготовителем, а значит, жил лучше остальных. О любви как-то не думалось. На самом деле без мужской силы в крестьянском хозяйстве, ой, как нелегко – дрова, сено, навоз, прохудившаяся крыша, сломавшийся забор! Именно желание видеть рядом мужскую опору определяло то, что женщина без всякой симпатии, часто плохо зная будущего спутника жизни, принимала его предложение. Так случилось и с Катей.
Нам было интересно узнать, как проходила свадьба в 1940-е. И мы расспросили тех, чья молодость пришлась как раз на трудные послевоенные годы.
Свадьбы назначались, как правило, на осень. К этому времени были убраны и колхозные поля, и огороды. Картошка спущена в погреба, а чаще в «подпол», то есть в обычную яму, выкопанную прямо под неокрашенными половицами. Там же хранилась и заквашенная на зиму капуста, что делало запахи сельских изб очень похожими: «дух» был неприятным, кисловато-терпким. К свадьбе заводили с вечера тесто и с самого раннего утра пекли шаньги с морковкой, а иногда и с творогом (это те, кто имел свою корову и не задолжал колхозу по налогам).
Все застолья были похожи: в душной избе (готовили-то всё в печи), в горнице размерами не больше 14 кв. м, сооружали скамью из доски, положенной на две чурки; для посадочных мест использовали и кровать (редко панцирную, чаще обычный топчан с деревянным настилом). Жених с невестой сидели во главе стола. Если когда-то раньше над ними были образа святых, то теперь у многих размещались портреты Ленина или Сталина. Речи произносились недолго, первые тосты поднимали за молодых, за их родителей. А потом – за «отца народов», за правильную политику партии (если кто-то из начальства был среди приглашенных). Через час-другой мужики шли покурить, женщины запевали жалобную песню. Возвратившись с улицы, кто-нибудь из мужчин, подзадоривая гармониста на веселую игру, начинал в соседней прихожей, отделявшейся от горницы с гостями занавеской из «рядна», разудалую пляску, выхватывал первую попавшуюся бабу и начиналось состязание в отбивании дробей, в прихлопах, притопах, в пении «крепких» частушек. Свадьба продолжалась, бывало, до глубокой ночи. Случались и разборки между гостями с мордобоем и пьяными угрозами: «Убью!», визгом испуганных баб и ребятишек. Пьяный гармонист к этому времени играл уже давно для себя, никто не плясал – устали, понемногу расходились по домам, причём многие женщины утаскивали на себе своих обессилевших мужей. Двери настежь открыты, холодный воздух наполнял душное помещение, зато по двору долго еще распространялся луково-капустный и самогонный запах. Даже случайному человеку, не знающему о свадьбе, можно было догадаться – сегодня в этой избе что-то праздновалось…
Но и такой свадьбы у Кати в 1946 году не было. Она просто перешла в семью будущего мужа. Нажитое добро было столь незначительным, что его перевезли на телеге в одну ходку: старый фанерный чемодан с её и дочкиными пожитками, две домотканые дорожки серого цвета, простенькая кухонная утварь: самовар, помятый при падении с печи ещё у её бабушки, ухват, пара чугунков, несколько алюминиевых ложек, две кружки. Вот, пожалуй, и всё, что было в её с дочкой хозяйстве ценного. Да и сам 1946 год был «не свадебным» – всё лето и осень шли проливные дожди, в то время как по стране была засуха. Деревня не успевала высушить и переработать даже убранный урожай, пшеница прорастала, портилась. Вместо улучшения жизни, которого так ждали, в деревню пришел голод. Этому способствовало и неожиданное постановление Совета министров СССР и ЦК ВКП (б) «О мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах». Властям показалось, что размеры личных подворий крестьян слишком велики и это отрывает их от работы на общественных полях. В Новосибирской области только осенью 1946 года у крестьян было изъято свыше 28 тыс. гектаров земли. Эти земли, по воспоминаниям переживших голод, зарастали бурьяном. Но отвлекаться на них, засаживая картофелем или еще чем-то, нельзя было под страхом ареста. Кое-кто умудрялся, правда, возделывать участки глубоко в тайге. Но для этого надо было быть либо охотником, либо объездчиком, то есть не работающим непосредственно под контролем власти. Таких было два-три человека в селе. Но и они опасались за последствия – «не дай Бог кто узнает».
Поэтому, выполнив план обязательных хлебозаготовок, сибирская деревня оказалась без хлеба. Не имея практически никаких запасов (все уходило на налоги) колхозники вскрывали скотомогильники, ели собак, голубей, отлавливали сурков. Но всё это не спасало – пухли от голода. В обкомы партии потоком шли сообщения – одно страшнее другого: «В Маслянинском молсовхозе опухло 27 человек, в Ордынском, Вьюнском совхозах – 100 человек». Сильно болела Лидочка. Катя старалась её подкормить, понимая, что ослабленный организм трудно лечить. Недоедала сама, только бы ребенка спасти.
Новый муж оказался человеком неплохим по понятиям самой Кати: Лидочку любил, старался, чтобы она жила не хуже тех, что живут с родными отцами. А вот Катю сильно ревновал и бил. Трудно понять нам, как мужчина мог бить ногами женщину, но бабушка Лида рассказывает об этом, как о деле обыденном. В чём причина? Трудно сказать, зависело, наверно, и от личных качеств человека, и от его «чувства превосходства» – хорош уже тем, что мужик. И избивал Александр жену так, что не смогла она больше родить, потому и осталась Лида без сестрёнок и братьев.
В любом случае, любить Катерина его не любила, хотя и благодарна была за отношение к дочери, которую не обижал. Лиду он успел вырастить и даже выдать замуж и увидеть первую внучку, Марину. Затем тяжело заболел, умер в 1963-м году.
Грубость, неумение и нежелание проявлять свое доброе отношение к жене было для деревни тех лет делом обычным. Редко в какой семье муж не избивал жену, и многие считали такого подкаблучником и подсмеивались. Женская же покорность зачастую шла от беспомощности в трудных условиях выживания. Не только муж был жестоким, но и государство не щадило женщин: тяжелый труд на колхозных полях, в холодных фермах, на лесозаготовках, на приисках. Ни отпуска по уходу за ребенком, ни нормального питания, ни лечения. Вот и старились раньше времени молодые крестьянки, сохраняя своим великим терпением семью, чтобы только детей поднять. О себе не думали.
Лидино трудное счастье
Лида после седьмого класса поехала учиться в город Новокузнецк, в строительное училище. Через десять месяцев вернулась к матери, сильно скучала «на чужой стороне». Но специальность приобрела – штукатур-маляр. В семнадцать лет познакомилась со своим будущим мужем, Николаем Черепановым. Как она убеждена и сегодня, он самый лучший – черноглазый, черноволосый, играл на гитаре.
Отчим не хотел, чтобы Лида выходила за Николая, а доводом, весьма веским и, кстати, нашедшим подтверждение впоследствии, была убежденность в том, что «топор, Лида, и пила, будут не в его, а в твоих руках». Николай был поздним ребенком, мать родила его в сорок шесть лет. Два старших сына у нее погибли в Великую Отечественную, поэтому всю свою любовь мать перенесла на Николая. Физический труд он действительно не любил и не был к нему приучен. Зато был добрым, заботливым и внимательным. Много читал, имел хорошую память, любил быть в центре внимания. Именно таким мы его и помним. Уже став дедом, он так и не поменял своих привычек наряжаться: белый костюм, белый шарф, белые туфли.
Когда они поженились с Лидой, были особенные годы – 1960-е. Свобода, пусть даже выплескиваемая только в малых порциях, видимо, меняла людей, делала их более открытыми, стремившимися к общению. Николай выучился игре на гитаре (к его чести, и жену затем обучил). На вечеринках (что хорошо помнит наша мама) отец был душой компании, много шутил и пел. Лида искренне любила его и многим в своей жизни жертвовала. Уже имея трехлетнего ребенка, Марину (сестру нашей мамы), уговорила мужа поступить на дневное обучение в мединститут. А когда Николай окончил четвертый курс, родилась наша мама – Надежда.
В доме не было лишней копейки. Лида «перелицовывала» себе старенькие пальтишки, продлевая их век. Сегодня, наверное, не все знают, что это такое. А это означает, что полинявшее, потёртое пальто распарывается по всем швам и заново шьется. Только ткань переворачивается с изнанки на лицевую сторону. Детей тоже сама «обшивала» на старенькой ручной машинке. Лида работала на стройке, получала 37 рублей. Все лучшее доставалось детям и мужу. На себя внимания не обращала. Когда младшей дочке Наде исполнилось 10 месяцев, а Николай получил диплом врача-психиатра, Лида, наконец, и сама поступила в медучилище.
Наша мама большую часть первых лет жизни провела в круглосуточном садике, куда детей сдавали на неделю, а забирали лишь на выходной. Баба Лида и сейчас волнуется, рассказывая, как прибегала постоять под окнами садика – всё казалось, что Надя плачет. А мама говорит: «Была общительная, играла с детьми с удовольствием, сильно-то не скучала» – привыкла. Марина завидовала, ей пришлось сидеть с бабушкой, на сад для двоих денег не хватало. Она всё приставала к бабушке, когда же её отправят вместе с Надей в садик: «Там игрушки есть!» А бабушка по простоте ляпнула: «Когда умру», вот Маринка и спрашивала каждый день с надеждой, скоро ли свершится это «радостное событие».
Поздними вечерами, когда все спали, Лида сидела за швейной машинкой – девочкам шила фланелевые штанишки, халатики, рубашки. Училась Лида на вечернем отделении, а днём работала. Главной причиной продолжения обучения Лиды стала не столько тяга к знаниям и профессии медсестры, сколько желание матери, Екатерины Григорьевны, чтобы дочь ходила на работу «в чистом», а не в засаленной фуфайке и кирзовых сапогах, в то время как муж будет «выряжаться», став врачом. Но нам кажется, что важнее была другая причина – очень уж ей хотелось быть рядом с мужем и дома, и на работе. Жили в этот период в рабочем поселке Чик, впятером, в двух комнатках «коммуналки»: Лида с Николаем, его мать Анна Васильевна, Марина и Надя.
В 1971 году Николай окончил институт, и его по направлению отправили работать в психоневрологический диспансер в поселок Конезаводской врачом-психиатром. Невзирая на семейное положение (семья, двое детей) он обязан был отработать там четыре года. Ровно столько они там и прожили, и наша мама Надя вспоминает это время как самое яркое в её детстве. Николай работал психиатром, Лида – медицинской сестрой.
Здесь семье выделили трехкомнатную квартиру в двухэтажке. Жить было уже полегче, дед увлекся охотой. На столе в изобилии появилась дичь – тетерева, перепелки, зайцы. Научился выделывать шкурки. У Лиды теперь была возможность «освежить» свое кримпленовое пальто лисьим воротником. Стали обзаводиться «фабричной мебелью», что было не так-то просто в условиях сельской местности и всеобщего дефицита. Надя вспоминает, каким событием стала для семьи покупка кухонного гарнитура и дивана. Гарнитур представлял собой обычный стол и шкафчик. И то, и другое облицовано белым пластиком. По нынешним меркам, самый обыденный предмет обихода. Но тогда надо было год, а то и дольше стоять в очереди или заработать покупку вне очереди в виде премии «за высокие показатели в труде». Распределением очередей ведали парткомы организаций. И поэтому была такая радость от приобретения примитивного дивана с серой обивкой. Мама рассказывает, что они пригласили родственников, устроили застолье. Все разговоры взрослых постоянно возвращались к покупкам, к тому, что очередь подошла только на гарнитур, а тут кто-то отказался от дивана. Отец сумел быстро найти деньги (попросту занять), и вот – диванчик, это ли не радость?
Но когда дети подросли, Надин отец, как он сам тогда считал, «влюбился». Из стен родного дома исчезла прежняя радость, стало неуютно. Мать сильно переживала, часто плакала. Он же не решался уйти из семьи. Эта обычная, но очень трудная ситуация, видимо, и послужила толчком к тому, что он начал пить. Затем было сотрясение мозга и (злая ирония судьбы) – некогда успешный врач-психиатр стал пациентом психоневрологического диспансера. Были моменты просветления, у близких много раз появлялись надежды на скорое улучшение, но затем случался рецидив. Долгие годы его болезни превратились для бабушки Лиды в кошмар, но она была очень терпелива и по-прежнему заботлива со своим Колей. Она исполняла любые его прихоти, со всем, что он ни говорил, соглашалась. Самое лучшее из продуктов готовилось для Коли.
* * *
Мы начали своё повествование с рукописи «баушки» Кати, а рассказали о нескольких поколениях женщин по маминой линии. Но завершим свою работу все же страницами, посвященными опять Екатерине Григорьевне.
Любви все возрасты покорны
Екатерина Григорьевна по-прежнему жила в поселке Чик. Точнее, это станция западносибирской железной дороги со статусом «закрытого значения». Под этим «значением», как мы знаем сегодня, подразумевались захоронения отходов химического и иного производства. Александр уже умер, у Лиды была своя семья. Кате перевалило за пятьдесят, но она сохранила и интерес к жизни, и удивительно веселый нрав, хотя работала она совсем «не в женской сфере» – кочегаром в центральной котельной, обеспечивая теплом жителей станции, а себя «большой пенсией». Шли уже 1970-е, когда встретила она Петра Дмитриевича Лазорина. Он в начале войны попал раненым в немецкий плен, чудом остался жив. Несколько раз бежал и снова попадал в руки фашистов. Истощённый, больной, не способный самостоятельно передвигаться, он был освобожден из плена союзниками. А потом более десяти лет искупал «вину перед родиной» в советских лагерях: бил камень в карьере на щебёнку, загружал в вагоны известь, валил строительный лес в тайге, несколько раз умирал и выживал. Он был мастер на все руки – жизнь научила. Сблизило их с Екатериной «производство», познакомились, когда чинил Петр котел в её родной кочегарке.
Увы, недолгим было её счастье с ним, всего-то шесть лет. Ласковый, добрый, Петр Дмитриевич видел в своей спутнице всё то, чего не замечали бывшие мужья – и душевность, и юмор, и доброту, и живой ум. Работал он печником, хорошо зарабатывал и никогда не скупился на подарки жене, её дочери Лиде, внукам Екатерины – Марине и Наде. Трудно было представить, что почти вся жизнь этого человека прошла за колючей проволокой, в атмосфере боли и жестокости. А может, это и сказалось на его отношении к любящим людям – хотелось отвечать взаимностью на любое проявление тепла. И он радовался всему, чего был лишен в течение многих лет. Жизнь его оборвалась неожиданно: домой возвращался через железнодорожные пути, торопился с гостинцами и не увидел приближающегося электропоезда. Отбросило его на несколько метров в сторону от полотна, полетели на рельсы яблоки и конфеты.
С трудом бабушка оправилась от этой беды. Работала по-прежнему в котельной, и сестрам, и дочери, и внукам стремилась «лишнюю копейку сунуть», хотя на самом деле лишних денег у советского рабочего не было.
В 1970-м году едва не лишилась жизни наша баба Катя. Открывала вентиль, он сорвался. Попала в больницу с ожогом тела на участке кожи в 50%. Едва выкарабкалась, почти год болела. Привыкла быть «в передовиках», а тут такая беда. Но выкарабкалась. И снова работала в котельной, была активной общественницей, членом редакционной коллегии стенгазеты. А в редколлегию попала по причине своего весёлого нрава. Чего только не высмеивали в рабочей газете застойных лет: опоздание на работу, прогул, пьянство, некачественное выполнение своих обязанностей. И обо всём баба Катя писала в стихотворной форме. Получался обычно фельетон с конкретным описанием какого-то факта из жизни трудового коллектива.
Уровень внутренней культуры пролетария 1970-х высоким назвать нельзя. Висящий в красном уголке в засиженной мухами рамке «Моральный кодекс строителя коммунизма» ни у кого не вызывал ни малейшего интереса. Он был частью убогого интерьера серой комнатушки, всегда задымлённой, душной, темной. К нему настолько привыкли, что просто не замечали. Люди на собраниях говорили красивые слова о бережном отношении к «социалистической собственности», а на деле вели себя абсолютно равнодушно к её сохранности. Так случилось вскоре и с душем в котельной: кто-то выкрутил распылитель, затем согнули гусак, с корнем вырвали решётку и мусором намертво забили слив. Не прижилась «городская традиция» в Чикской центральной котельной – слегка умывшись, расходился вечером рабочий класс по домам с привычным угольным напылением на уставших лицах.
По тебе тоскую
Доживала баба Катя свою жизнь с Лидиной старшей дочкой, своей любимой внучкой Мариной. Как только та вышла замуж и родила первого ребенка, соединила свою двухкомнатную квартиру с её комнатой в коммуналке, получилась трехкомнатная. Для молодой семьи, по меркам тех лет, это была невиданная роскошь. Бабушка Катя помогла ей и детей вырастить. Пока могла двигаться, всем стремилась помочь. В последние годы натруженные ноги со вздувшимися венами-веревками, отёекшие, потяжелевшие, не давали свободы движений, мучили болью круглосуточно.
До последнего часа она жила нами, нашими интересами и заботами, как бы её не оберегали от волнений. Незадолго до ухода она захотела написать письмо подруге Маше. Сидя в подушках, уже непослушной рукой выводила строчки. Писала подруге, что «вот, кажется, и нажилась на этом свете», что прожила всё-таки счастливую жизнь, потому что
«и внуки есть, и правнуки. И честными людьми все получились – и дочь, и её дети. А что тяжело жилось, так не только мне, а всем вокруг мало сладкого было, полыни-то в жизни всегда не меньше, чем медоносов».
Была поэтом наша бабушка Катя, не удержалась и здесь – написала она стихотворение, которое определила как «Предсмертное». Мы приведем его целиком:
Сколь жила, на том конец.
От хлопот свободна.
Да теперь я не жилец,
Никуда не годна.
Скоро смерть моя придет,
Я ей буду рада.
Там «живут» все хорошо,
Ничего не надо:
Ни одежды, ни еды,
Никакой заботы.
Спи, лежи, как госпожа.
Никакой работы.
Мне бы ноги поживей,
Я бы побежала
И могилку муженька
Я бы отыскала.
И спросила б я его,
Только лишь приметив:
Как живёшь, мой муженек,
Ты на свете этом?
Всё бы, скажет, хорошо –
По тебе тоскую:
Я вокруг здесь обошел,
Не нашёл такую!
Бабушкино сравнение жизни с полынью и медоносными травами неслучайно. Она прожила в постоянном ожидании счастливой, лучшей женской доли. Но счастья ей досталось мало: и раннее сиротство, и война, вторгшаяся в жизнь, по сути, лишившая её мужа, отца её ребенка. И вечно тяжелый труд – на тракторе, кочегаром, чтобы выживать, чтобы «хорошую пенсию получать», чтобы «было на что похоронить»… Об этом свидетельствуют и последние строки её предсмертного стихотворения, где она признаёт, что «скоро смерть придет, я ей буду рада». Там, куда она уйдет, «ни одежды, ни еды, ничего не надо». Уже одно это, видимо, воспринимается ею как утешение, ведь вся ее трудная жизнь была борьбой за лишний пуд хлеба, который для сестер зарабатывала совсем юная трактористка в 1940-е; за то, чтобы справить новое пальто дочке, а позже – за то, чтобы «собрать копейку» к Новому году для внучат, у которых родители надумали учиться; за то, чтобы в дымной и душной кочегарке заработать «большую пенсию» и чтобы не быть никому в старости обузой.
Анжелика Архипова, Виктория Архипова,
с. Елбань, Новосибирской обл.
Научный руководитель Т. Ю. Нерода